
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Диакон храма св. Иоанна Предтечи что на Пресне.
 |
Родился в Москве на Сретенье 1963 года (15 февраля). В 16 лет поступил в МГУ.
В 1984 г. окончил философский факультет МГУ по кафедре истории и теории научного атеизма, поступил в аспирантуру Института философии АН СССР; в 1985 г. перешел на работу в Московскую Духовную Академию. В 1988 г. окончил Московскую Духовную семинарию, после чего учился в Бухарестском Богословском институте. По возвращении из Румынии с 1990 по 1993 г. работал референтом Патриарха Московского и всея Руси Алексия. В 1992 г. окончил Московскую Духовную Академию. В 1993-1996 гг. декан философско-богословского факультета Российского Православного Университета св. Иоанна Богослова. С 1997 года – профессор Свято-Тихоновского Православного Богословского Института. С осеннего семестра 2004 года основное место работы – МДА (чтение лекций в Свято-Тихоновском институте (ныне Университете) при этом продолжается).
В 1994 г. в Институте философии РАН защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук. В 1995 г. защитил кандидатскую диссертацию по богословию в Московской Духовной Академии. В 1996 г. Патриархом Алексием по представлению ученого совета РПУ присвоено ученое звание профессора богословия. Решением Синода от12 марта 2002 года включен в состав редколлегии сборника «Богословские труды». Решением Синода от 24 декабря 2004 года включен в состав Синодальной Богословской комиссии. 15 февраля 2003 года Патриархом Алексием награжден орденом преп. Сергия Радонежского 3-й степени.
Член экспертно-консультационного совета по проблемам свободы совести при Комитете Государственной Думы РФ по делам общественных организаций и религиозных объединений.
 |
КАК НАУЧНЫЙ АТЕИСТ СТАЛ ДЬЯКОНОМ
Патриарх Алексий II позволял ему спорить с собой. А с ним самим кто только не спорил: от буддистов до староверов. Ректор МГУ Садовничий вручил ему медаль «Почетный выпускник МГУ», а рериховцы заранее шлют в ректораты и прокуратуры письма с требованиями запретить его лекции. Рокеры Юрий Шевчук и Константин Кинчев называют его другом. Кто же он, человек в «спецодежде» церковника, но не священник, самый молодой персонаж словаря «Философы России XIX–XX столетий», ставший и самым молодым (в 35 лет) профессором богословия в истории России?
— Так кто же Вы, господин Кураев?
— Прежде всего — православный христианин. Затем — диакон (служу в храме Иоанна Предтечи на Красной Пресне). Богословом назвать себя не дерзну, но церковным журналистом — можно.
— Значит, до Бога дошли?
— Дойти невозможно. Но можно приблизиться…
— Что для этого нужно? На собственном примере, пожалуйста.
— Мой путь шел через поиск смысла. Как пел в 80-х один рок-музыкант (ныне священник в Макеевке), «если меня разложить на молекулы — что ж, стану молекулой. А если меня разложить на атомы — что ж, стану атомом. Скучно». Вот это ощущение скуки как последнего предела мироздания и было для меня толчком к вере. Ну не может же скука быть последней истиной!
— Стало обидно?
— Захотелось добраться до истины.
— Как же Вы добирались?
— Сейчас, по прошествии двадцати лет, кажется, что все было очень просто...
 |
Так вот, у кришнаитов есть две школы, одна из которых близка православным, а вторая — протестантам. Одна из них зовется «школа обезьянки» вторая — «школа котенка». Первая говорит, что детеныш обезьяны цепляется за мать, а она его сама переносит с ветки на ветку. От малыша требуется лишь держаться и не мешать. «Школа котенка» говорит: «Смотрите, как кошка несет в зубах малыша, котенок же вовсе ничего не делает». Так и Господь спасет человека, который в этом никакого участия не принимает. Мое Крещение я могу объяснить только с позиции «школы котенка».
 |
Если же искать человеческих сдвижек, то тут очень много ниточек сходились в один узел.
В моем обращении к Церкви многое значило детское увлечение фантастикой. Это я потом понял, что на философском языке фантастика — это привитие человеку навыков феноменологического мышления. Феноменология интересуется смыслом, а не правдой. Дело не в том, так «на самом деле» или нет. Феноменолог анализирует текст, изначально воздержавшись от суждения о его «истинности». Важна внутренняя логика сюжета, перекличка смыслов. Если ты принял некоторые условия фантастического романа — дальше ты следуешь этим правилам игры. Вот и встретившись с миром религии, поначалу именно так, феноменологически, я к нему и относился. Для атеистически воспитанного человека нельзя было сразу поставить вопрос: «Правда это или нет, воскрес Христос или не воскрес?». Но прежде чем сказать для себя «да», он может попробовать понять: если «да», то… То есть начать понимать внутреннюю логику Православия. А однажды воля говорит разуму (именно так: не уму, а воле дано решать — что есть, а чего нет): «Все, я хочу жить именно в таком мире, где есть вот это, я хочу, чтобы это было всерьез». Игра кончается, начинается жизнь.
Первыми религиозными авторами, которых я читал, были Франк и Шестов. Первое знакомство с ними оставило меня равнодушным. Я просто не понимал, о чем они пишут. Их рассуждения о Боге, о Христе казались мне слишком далекими. Но все же нечто позитивное из первого знакомства с ними я вынес. Они показали мне, что можно быть христианином и при этом человеком ХХ века. Затем отец Сергий Булгаков вполне убедил меня: мир духовной жизни — это такой мир, о котором нельзя судить снаружи.
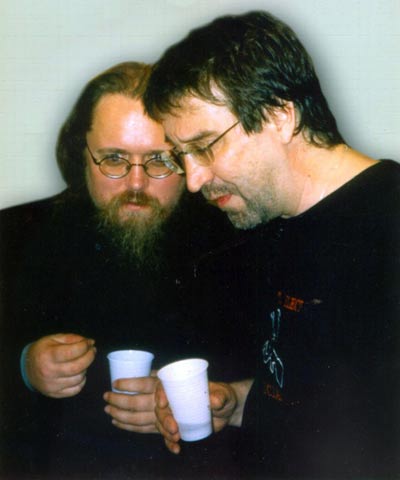 |
Кроме того, оказавшись на кафедре научного атеизма, я в учебном порядке должен был заниматься религиозными вопросами, читать литературу — прежде всего, конечно, атеистическую,— но попадался и самиздат. Доводилось брать книжки у знакомых, да и на кафедре библиотека была достаточно приличная. Атеистический стиль работы, с которым я встретился, вызывал неприятие и тем самым во многом помог мне определиться.
 |
— Во-первых, сравнивая первоисточники, Евангелие, книги по истории Церкви с тем, как это препарировалось в книгах по атеизму, я достаточно быстро заметил, что в последних много неправды, многое притянуто за уши и огромное количество просто элементарной некомпетентности. Когда я начал вживаться в кафедральную жизнь, меня поразила одна деталь. Там не было ни одного спецкурса по библеистике, по истории Церкви, даже по истории религии; там не было ни одного человека, который мог бы эти спецкурсы вести. Было много спецкурсов по «модернизму», но никакого знакомства с традицией. Образование получалось странно мозаичным. Кроме того, в те годы никто из преподавателей кафедры не знал ни еврейского, ни греческого языков. И при этом они заявляли, что занимаются научной критикой Библии. Это меня сильно разочаровало.
 |
— Нет, не потому, что я был одержим зудом атеистической работы. Вообще-то я собирался специализироваться на кафедре истории зарубежной философии. Марксизм был мне, мягко говоря, неинтересен. А вот что-то до-маркистское, зарубежное… Но на экзамене по этому предмету приключился эпизод, перевернувший всю мою жизнь. В билете, который мне достался, первый вопрос был по китайской философии, второй — по Аристотелю. Китай был мне опять же неинтересен, да и лекции на эту тему у нас были крайне скучные. Короче, я ничего по этому вопросу билета не знал. А по Аристотелю ответил хорошо. Опыт сдачи экзаменов у меня к тому времени был уже немалый, поэтому я понимал: два по первому вопросу и пять по второму в среднем дают тройку. Каково же было мое удивление, когда профессор Богомолов протянул мне зачетку с записью «отлично»! Но при этом он сказал: «Передайте привет Вашему отцу!». Отец-то у меня тоже философ, и работал он тогда в Президиуме Академии наук…
И тогда я понял: или я всю жизнь буду всего лишь носителем своего отчества и всю жизнь буду таскать домой «приветы отцу». Или я должен искать свой путь жизни.
Сложность выбора состояла в том, что уже в ту пору официальная идеология не вызывала у меня симпатий. Поэтому я как раз накануне экзамена подал заявление о специализации по кафедре истории зарубежной философии: думал забуриться куда-нибудь в былые века и культуры, в проблемы, по которым, к счастью, не существует «установочных» определений пленумов ЦК… Но, оказалось, что на этой кафедре слишком хорошо знают моего отца. Куда же еще на философском факультете можно спрятаться от идеологии? — Конечно, на кафедру логики. Занятия по логике я любил… Но, увы, мой отец по своей научной специализации как раз логик и потому на этой кафедре более чем известен. Так, а раз мой отец логик, а я хочу выбираться своей колеей, то что же находится вдали от логики? — Конечно, религия. И в итоге я подал заявление на кафедру атеизма: по сути, изучение той же самой «зарубежной» или несоветской философии, только с более узким выбором тем.
Так что в выборе этой кафедры «виноват» мой подростковый «протестантизм». Ничего идейного.
— И на самой кафедре атеизма к вере Вы тоже шли «от противного»?
— Во многом да. Сама атмосфера общества, которая сложилась в начале 80-х годов, помогала повернуться к Церкви. Атеистические нападки выглядели очень нечестно, и я сказал себе: «Если ты видишь, что родная партия врет тебе по каждому поводу, и в крупном, и по мелочам, то, может быть, она не права и в вопросе, который сама же назвала основным вопросом философии: “Есть ли Бог? Что первично: материя или разум?”».
Я подошел к миру религиозной мысли, попробовал понять русских философов — естественно, сразу не получилось. Это была совершенно другая вселенная, абсолютно чужая для меня, для моего воспитания, моего окружения.
У меня не было верующих знакомых: ни родственников, ни друзей, ни однокурсников. То есть приходилось идти по книжкам. И довольно скоро я понял, что это мир, который можно понять только изнутри. Человеку неверующему рассуждать о религии — это все равно, что слепому рассуждать об особенностях Рембрандта. И я понял, что не хочу ставить себя в глупое положение; раз уж профессионально я оказался связан именно с этой специальностью, все-таки должен попробовать войти внутрь. Я понял, что нечестно заниматься изучением религии, если ты сам никакой веры не имеешь. Веры-то в марксизм у меня не было точно. Но и никакой другой — тоже.
Кроме того, меня задели и даже обидели слова отца Сергия Булгакова о том, что неверующий человек, который занимается изучением чужой религии, похож на евнуха, который сторожит гарем. Обидно, но верно. И я решил попробовать войти в этот мир. Читая книги русских религиозных философов, я заметил, что они постоянно говорят о том, что религия — это мир опыта. И если у тебя этого опыта нет, хотя бы в малейшей степени, ты, изучая историю религии, ставишь себя в неловкое положение. В самом деле, мы же не станем доверять мнению глухого человека, если он вздумает написать диссертацию о музыке. В таком же положении и человек, не слышащий музыки небесных сфер. Что он может сказать о религии?
Я понял, что если хочу уважать себя, то должен сделать решительный шаг.
— Когда Вы впервые осознали, что верите во Христа не просто как в учителя нравственности, жившего 2000 лет назад, а как в Бога, от Которого зависит вся Ваша жизнь?
— Для меня это были два разных момента: сначала пришла вера во Христа как Бога (Творца, Спасителя, грядущего Судию), а уже потом — вера во Христа как Вседержителя, от Которого зависит моя жизнь здесь и сейчас.
Что касается первого, то это произошло, когда мне было 18 лет. В то время я «болел» «Братьями Карамазовыми»: более всего меня поразила легенда о Великом инквизиторе. В этой легенде для меня сошлись все те философские проблемы, о которых я тогда думал. Все, что тогда меня пугало в жизни, сконцентрировалось в словах Великого инквизитора. Я вдруг понял, что те искушения в пустыне, которые были предложены сатаной Христу,— это предельный, точный и емкий выбор. И поэтому согласился с той характеристикой, которую Достоевский дал этому евангельскому персонажу: «дух сверхчеловечески умный и злобный».
Так сначала я признал существование сатаны, ну а затем последовал логический вывод: если Христос смог отвергнуть эти искушения, значит, Он тоже сверхчеловечески умен, но добр. Пришло осознание Христа как Спасителя. Ощущение внутренней пустоты прошло, свет в окошке забрезжил.
Но пока это было только философским принятием Христа. Начать молиться было намного труднее, и это произошло несколько позже, а крестился я почти через год после этих событий. И даже будучи крещенным, я с большим трудом понуждал себя публично перекреститься в храме или поклониться вместе с бабушками, которые там стояли. Более того, спустя еще год после Крещения на какой-то марксистской лекции, когда лектор громил идеалистов, я с ужасом понял, что он говорит, фактически, про меня. Осознать то, что я стал идеалистом, было очень трудно, настолько глубокие корни пустила марксистская закваска в моем подсознании.
А отношение к Нему как к Вседержителю пришло уже позже. Своеобразие юношеской веры в том, что она ни о чем не просит, она просто радуется тому, что Бог есть. Еще нет болячек, нет каких-то безвыходных жизненных ситуаций и, следовательно, можно приходить к Богу не торгуясь, не выклянчивая «гуманитарную помощь». Поэтому впервые я начал относиться ко Христу не просто как к Творцу и грядущему Судье, а как ко Вседержителю, от Которого зависит моя жизнь здесь и сейчас, только тогда, когда начал молиться о том, чтобы Господь помог мне поступить в семинарию.
— А почему из всех религий Вы выбрали именно Православие?
— В свое время я решил для себя: если однажды я все же приду к выводу о том, что Бог есть, то не буду выдумывать никакой своей религии. Мне уже обрыдли все эти бесконечные ночные посиделки на кухнях и общагах, когда в прокуренной комнате со стаканом коньяка (водки, портвейна, пива) в руке ведутся дискуссии об Абсолюте. «Так, Андрюша, давай договоримся. Если ты однажды придешь к выводу, что Бог есть, я тебя очень прошу: не выдумывай ничего своего. Понимаешь, если Бог есть, то это означает, что ты не первый умница, который до этого додумался. История началась не с тебя. Ты не первый человек, идущий по этому пути. Присмотрись к опыту людей, которые шли по нему раньше и дальше тебя продвинулись». Любые попытки выдумать что-то свое, свою религию, мне казались верхом пошлости. Поэтому я с самого начала наложил на себя такое ограничение, что не имею права, не должен пошлить, не должен выдумывать что-то свое, а должен войти в традицию. Если уж христианство — то самое традиционное.
А почему именно христианство? — Так ведь к тому времени у меня уже были представления о других религиях и я уже понимал, что более высокого пути религиозной жизни и мысли нигде нет. Ни одна другая религия мира не кладет в свою основу формулу Бог есть любовь и не говорит в своем символе веры: «нас ради человек и нашего ради спасения».
— И как это решение переросло в действие?
— Помню, это решение я принял под воздействием чувства… зависти. Мой ближайший друг — студент истфака — все же крестился (у староверов). Он был настолько счастлив, что я решил: «Хватит баловаться философией, жонглировать умными терминами и цитатами, надо решаться». Это был май, и я решил: «И я либо к осени крещусь, либо никогда». При чем тут была осень, мне и самому до сих пор непонятно. Но в те дни для меня значимой стала песня Владимира Высоцкого: «Мой друг уехал в Магадан… Снимите шляпу».
Конечно, обычная студенческая суета занесла своей пылью ту ясную решимость. И только в предпоследний день осени — 29 ноября — я был разбужен мыслью: «Ты же что-то обещал сделать!». И побежал искать храм для того, чтобы более не откладывать. В каком-то смысле я испугался себя самого, своей нерешительности и решил с нею покончить.
Тогда в голове у меня вертелись строки Пастернака: «Жизни ль мне хотелось слаще? — Нет, неправда: я хотел только вырваться из чащи полуслов и полудел!»…
Спустя годы я услышал точную формулу этой своей мотивации со стороны. Я уже был в аспирантуре. И вот наш сектор современной зарубежной философии празднует масленицу дома у моего научного куратора Тамары Кузьминой. Сидим на кухне и ведем вековечную русско-интеллигентскую дискуссию на тему «Что такое мещанство». А в гостях у Тамары Андреевны в тот день оказался ее давний друг, былой однокурсник. Вот только он по окончании университета решил не иметь вообще ничего общего со советской идеологией и всю жизнь так и проработал Калуге истопником. Но интерес к миру книг он не потерял. Так и в тот вечер — пока все сгрудились на кухне и спорили, он ходил по квартире, выискивая на книжных полках новинки. И вот, отобрав что-то интересное для себя, со стопкой книг он заходит на кухню. И хозяйка его с ходу включает в разговор: «Ну, скажи, что такое мещанин?!». Ответ был дан без секунды раздумий, слету: «Как что? Мещанин — это человек, у которого бытие определяет сознание!» .
Мне же хотелось, чтобы мое сознание дало мне новый опыт бытия…
С этой жаждой я и пришел ко Крещению. Сам день моего Крещения был довольно необычным. Я не могу сказать, что уверовал и потому пошел креститься. Ровно наоборот: я пошел креститься для того, чтобы уверовать, то есть я ощущал потребность сделать шаг, который вырвал бы меня из привычной колеи жизни; надо было пойти посмотреть, ворваться туда, в Церковь. Может быть, потом я что-то пойму. До некоторой степени это был философский эксперимент, поставленный на себе,— но он увенчался совершенно невероятным успехом.
У Бога Свои планы о нас: в день Крещения благодать Христова коснулась сердца — и с этого дня стало понятно, о чем слова Евангелия: Царство Божие внутри вас . После этого мне действительно стало изнутри понятно многое из того, что говорится в Священном Писании, у святых отцов. Я всем существом ощутил, что чудо произошло. Это Таинство, а не просто омовение в купели.
— Когда же Вы крестились?
— Это произошло в 1982 году. Я был студентом четвертого курса.
— А где Вы крестились?
— В Москве, в храме Иоанна Предтечи. Причем искал храм, который был бы максимально далек от моего дома и университета,— с тем, чтобы никаких случайных знакомых не было, чтобы никто не «настучал». Если узнают в университете — выгонят, у родителей будут неприятности из-за меня... И за это я себя сейчac очень корю: в том храме, где крестился, теперь я и служу. Полтора часа в одну сторону, полтора — в другую… Так что нередко по дороге я говорю себе: «Что ж ты, мерзавец, таким трусом был?!». Первые полгода я стоял на службе, оглядываясь на каждый стук входной двери: вдруг кто знакомый вошел… Так и дрожал, пока однажды не ушами, а сердцем не yслышал на водосвятном молебне прокимен, в котором возглашалась строчка из псалма: Господь просвещение мое и спacитель мой, кого убоюся? . И я подумал: «Господи, кого же я боюсь?». И после этого страх как рукой сняло.
— А как же происходило или что произошло при Крещении?
— Вдали от своего дома я знал только один действующий храм — на Ваганьковском кладбище (был там на похоронах Высоцкого). Поехал туда — но храм был закрыт. Я был просто оглушен, земля ушла из-под ног. В таком потерянном состоянии я просто пошел бесцельно бродить по городу. И вдруг в конце Большевистского переулка увидел храм. Побрел к нему безо всякой надежды (ибо трудно было представить, чтоб в одном районе Москвы было два действующих храма). К моему радостному изумлению, храм оказался действующим и даже еще не был закрыт по окончании утренней службы.
Я успел проскользнуть в дверь. Обращаюсь за свечной ящик: хочу, мол, креститься. Бабушка, стоящая там, начинает меня отговаривать: «Ты лучше завтра приходи, завтра хороший батюшка служить будет!». По-своему эта бабушка была права. Священник, который должен был служить завтра, и в самом деле потом стал моим духовным наставником. Но тогда я возмутился: «Какая разница, какой священник! Я не к священнику пришел, а к Богу! И мне нужно креститься именно сегодня!». В общем, денег с меня за крестины не взяли, бабушка эта даже крестик подарила.
Вышел из алтаря отец Александр Мещеряков и повел меня в крестилку. Крестил он весело, без назиданий и пояснений, с прибаутками. Соответственно, и у меня не было никакого «медитативного» настроя.
А затем он ввел меня в алтарь (это называется «чин воцерковления»). Первое мое впечатление от алтаря — чайник. Даже мелькнула мысль: «Теперь я знаю, зачем в церкви иконостас: чтобы за ним прятаться во время службы и чаи гонять» (как наши лаборантки на кафедре).
В алтаре, вдали от посторонних глаз, священник начал меня расспрашивать — кто, откуда… Узнав же, где я учусь, и вдоволь посмеявшись, сказал: «Не смей бросать учебу. Ты должен окончить университет».
Так что по крайней мере этот, самый первый священнический совет в моей церковной жизни я точно исполнил. И, кстати, он мне много помог, потому что потом у меня неоднократно возникало желание бросить университет и «убежать в леса».
А в целом все было вполне обычно и обыденно. И только когда я вышел из храма и вошел в метро — там и произошел тот сдвиг в душе, ради которого я и искал Крещения… Потом я узнал, что такое бывает нередко: человеку дается пережить благодатность Таинства не в минуту его совершения, а потом. В моем случае мудрость Промысла была в том, что если бы это переживание пришло в храме — его потом было бы легче украсть. Потом шальная мыслишка подсказала бы атеистической части меня: «Ну, это же было в храме — необычная обстановка, твой собственный настрой, в итоге и родилось это самовнушение» . Но что для москвича может быть более привычно и обыденно, чем метро? И настроя уже ищущего не было. Я просто возвращался в университет… И был «настигнут радостью».
— А что в университете?
— В университете я попал прямиком на третью пару — спецкурс «Несовместимость современного естествознания и религии». Профессор скучно зачитывает свою лекцию для маленькой группы — нас человек семь было на этом спецкурсе. А меня распирает от счастья — я не могу не улыбаться. Он косится на меня и в конце концов спрашивает: «Кураев, что Вы все время смеетесь?». А я как представлю, что с ним будет, если я ему скажу, отчего я сегодня смеюсь,— так мне вообще хохотать хочется…
А в последующие месяцы это даже вошло в поговорку на нашем курсе —«счастливый, как Кураев».
— Обычно люди приходят к вере, ко Крещению после какого-то жизненного переворота, трагедии, горя или удивительного события. У Вас, насколько я понимаю, было по-другому?
— Дело в том, что свой путь в Церковь я могу описать двояко. Я могу несколько часов подробно рассказывать, что происходило,— и в итоге получится впечатление, что это был логичный путь, который иначе и не мог завершиться. Но сердцем я помню и знаю, что это не так. Потому что каждый новый импульс: открытие, какая-то встреча, слово — тут же заглушался. И потом снова были недели и месяцы пустоты, обычные студенческие тусовки, после которых опять происходило что-нибудь. Правдивее будет сказать так: Господь взял и привел.
Ну, а затем были непростые годы, когда надо было силком втаскивать себя в Церковь, заставлять себя, понуждать к пониманию Писания, к согласию со всем учением церковным.
— А как же родители — они разве были к такому готовы?
— Никто готов не был. Я крестился и полгода от родных это скрывал. Говорил, что иду на дискотеку, а сам шел в храм. Я понимал, что правда для них будет слишком болезненна, потому что у них были свои представления о том, какую я должен был делать карьеру.
— Когда родители узнали о Вашем крещении, состоялся, наверно, нелицеприятный разговор?
— Родители обо всем узнали случайно. Вернулись с дачи домой раньше времени. Я был как раз на службе, а дома оставил неспрятанными молитвослов и иконки.
Слезы были. Последовало объяснение. Но опять же не мировоззренческое: «Мы тебе сейчас докажем, что Бога нет». А скорее попытки объяснить мне, что это плохо для моей судьбы, карьеры. С чем я в общем-то соглашался, но не видел в этом повода для отречения от обретенной веры.
Но мне удалось убедить родителей, что я не собираюсь убегать «в леса» и бросать университет. Уже через пару дней отец сказал мне: «Знаешь, а я все же рад, что ты крестился… теперь в твоих руках ключ от всей европейской культуры…».
Через некоторое время отец даже сказал мне: «Раз так, может быть, тебе будет проще, если ты поступишь в аспирантуру и не будешь после университета отрабатывать как преподаватель атеизма».
Отец посоветовал мне поступить в аспирантуру в институт философии и поменять специализацию – на историю философии. Он сказал: «У тебя еще будет некоторое время – резерв для размышлений, выбора».
Это был действительно правильный совет. И так мы вместе какое-то время строили мою судьбу.
Ну а еще в тот период я использовал такой прием: старался приглашать домой как можно больше православных людей. Но при этом не афишировал их православность.
Приходит к нам какая-нибудь девочка, скажем, студентка или аспирантка знакомая. Родители, конечно, очень рады, что наконец Андрюша за ум взялся, по девочкам начал ходить. Мать, понятно, тут и кофе нальет, и тортика нарежет. Сидим, ведем светскую беседу. И вдруг эта, допустим, Леночка встает и говорит: «Ой, Андрюш, пора! А то мы на всенощное бдение опоздаем».
Или приходит в гости парень, умный очкарик. Я объясняю: «Вот мой друг по университету, аспирант». Все нормально. И тут он начинает что-нибудь такое говорить на религиозно-философскую тему, что становится понятно: он православный.
Несколько случаев было еще более замечательных, когда люди, которых уважали мои родители, люди их поколения, вдруг расшифровывались в моем присутствии. Оказывается, у них тоже есть вера.
Важно показать дорогим для нас взрослым людям, что мир Церкви – это не мир фанатиков, и он не ограничивается нами. Потому что к нам у них может быть свое отношение, своя аллергия. Нет пророка в своем отечестве.
А пусть они посмотрят на тех, кого считают вполне достойными уважения, подражания. И увидят: есть люди, которые серьезно относятся к Православию. Не те, кто просто свечки перед иконами ставит или так, к слову, вспоминает о Боге. А те, кто всерьез разрешает своей вере влиять на свою судьбу. Вот с такими людьми знакомьте побольше родителей – хотя бы через их интервью и книги.
Самое интересное было, когда я спустя пару лет объявил родителям, что ухожу в семинарию. Опять начались слезы и объяснения. И тут родители сообразили: «Надо найти человека, который был бы для Андрюши авторитетен, раз он нас не слушает». И вспомнили: когда я был еще школьником, у меня был хороший репетитор по литературе – доцент МГУ Вячеслав Андрианович Грихин.
Родители говорят: «Давай к нему съездим, ты же его ценишь, любишь. Пусть он тебя наставит».
Приехали. За чаепитием обсуждаем новости семейной жизни. И вдруг моя мать переходит к главному: «Вячеслав Андрианович, вы знаете, у нас беда. Андрюша вот что надумал – в семинарию поступать!»
Вячеслав Андрианович минуточку помолчал, потом тяжко вздохнул и говорит: «Ну что я могу сказать, Андрей? Дай Бог, чтобы у тебя получилось то, о чем я сам мечтал всю жизнь, но так и не решился сделать!»
Дальше – немая сцена в стиле гоголевского «Ревизора».
Таких открытий, надо сказать, мне потом предстояло немало. Люди, о вере которых и подозревать было невозможно, оказывались верующими. Как-то, уже будучи аспирантом, я попал на съезд молодых ученых. Там блистал Генрих Батищев — в те времена известный советский философ, немного диссидентствующий и поэтому, в частности, довольно чтимый молодежью. Он хорошо говорил, но одна странность царапала слух. Я не удержался — и после лекции подошел к Батищеву: «Знаете, Генрих Степанович, я просто не могу понять Вашей логики: почему в каждой фразе у Вас звучит “космос ждет”, “космос заповедует”. Нельзя о космосе так говорить. Если слово космос заменить словом Бог, тогда это станет понятным... А просто от космоса нечего ждать — это же какое-то безличностное бытие». Батищев вдруг стал озираться, потом отвел меня в сторону: «Андрей, Вы все правильно поняли. Только знаете, это благословение моего духовника, чтобы я слово “Бог” в своих речах не употреблял».
— Ваши родители не пострадали за сына?
— Пока я доучивался в университете и в аспирантуре — нет. Но едва только я перешел на работу в семинарию — мои повороты коснулись и судьбы отца. У него как раз тогда была перспектива поехать на работу в Париж, в ЮНЕСКО. Он был референтом академика Федосеева — ведущего идеолога советской поры; отцовская должность называлась «ученый секретарь секции общественных наук Президиума Академии наук СССР». Но как только я подал документы в семинарию, сразу же соответствующая информация появилась в ЦК, оттуда — Федосееву. И отцу предложили «уйти по-хорошему» — самому написать заявление об уходе. И Париж, конечно, отменился. А Федосеев еще звонил в минобороны, требуя, чтобы меня срочно призвали в армию. К счастью, там оказались здравомыслящие люди. Я ведь по окончании МГУ был уже лейтенантом, по военной специальности числился замполитом… Советской армии такие замполиты были совсем не нужны.
— Отец сильно переживал? Ваши отношения из-за этого не испортились?
— У меня хороший отец, бывший детдомовец. В нашей семье карьеристов не было.
- А как – уже через вас – строились отношения родителей с вашим Богом?
- Я дома почти не миссионерствовал. Конечно, вел «развращающую идеологическую работу» с младшим братом. Благо, он был в подростковом возрасте, когда человек начинает искать свой путь, самого себя. И тут наш союз (союз со старшим братом) был для него психологически интереснее, чем с родителями. Это была наша тайна. Через 4 года и тоже втайне от родителей и он крестился.
- На сколько лет брат моложе вас?
-На семь. У него сложилась вполне церковная семья, девочку он нашел православную. И теперь уже его маленькие дочки миссионерствуют среди моих родителей.
А что касается родителей, то у них воинствующего атеизма и богоборчества никогда не было. Я думаю, нормальное родительское чувство сработало: раз наш сын отождествляет себя с Церковью, а мы себя отождествляем с ним, то это наша Церковь.
Сказать, что дело дошло до Причастия, я пока не могу. Но, по крайней мере, квартира была освящена – и родители при этом молились. В храм их иногда удается водить, или мать сама ходит.
У меня проблема в том, что отец давно ослеп. И, с одной стороны, он не может самостоятельно передвигаться. С другой, у него ограничен доступ к новой информации, что для гуманитарного ученого, философа очень тяжело. Он ослеп как раз тогда, когда начались перемены, потоки новой информации. А получается, что они идут мимо него.
— А в университете совсем не догадывались о перемене в Вашей жизни?
— К счастью, в те годы техника сдачи экзаменов по идеологическим предметам была хорошо отработана. Свою позицию можно было маскировать фразами типа: «Маркс говорил об этом так» или: «С точки зрения диамата, дело обстоит так». А о том, что думаю лично я, преподаватели не спрашивали.
Не могу сказать, что перемена во мне осталась незамеченной на кафедре, но преподаватели проявили достаточную тактичность и не поднимали этот вопрос.
Относились ко мне хорошо. На четвертом курсе я не успел написать курсовую — так мне поставили пятерку даже не глядя в нее — просто взяв с меня обещание, что до конца сессии я ее принесу. Это меня растормозило (или расхолодило). И дипломную работу я писал тоже скорее для себя, чем в расчете на чей-то посторонний взгляд. И ошибся — потому что дипломы как раз читают.
В результате через день после того, как я сдал дипломную работу, мне звонит мой научный руководитель и говорит: «Что Вы написали? Это харизматический трактат или диплом по кафедре научного атеизма?!».
Пришлось срочно переделывать. А как раз наступает Страстная седмица — надо ежедневно быть в храме, а тут этот немилый сердцу диплом… Руководитель торопит, и я в сердцах говорю ему: «Ну, не успеваю я! Какая переработка, если сейчас Страстная идет!». Брякнул — и замер… Ответ прозвучал более чем спокойно: «А я в Вашем возрасте успевал все: и работу сделать, и в храм сходить!».
Единственно только при защите диплома мне было сказано председателем кафедральной комиссии: «Мы даем Вам рекомендацию в аспирантуру, но учтите, Андрей Вячеславович: в Институте философии тоже бывают чистки!».
А через полтора месяца, за час до вручения диплома научный руководитель отвел меня в сторонку и сказал: «У нас есть информация, что Вы бываете в Троице-Сергиевой Лавре, общаетесь с преподавателями и семинаристами и у Вас там есть духовник. Это, конечно, Ваше дело, но у кафедры есть просьба к Вам: не поступайте в семинарию!».
Посещение Лавры и общение с преподавателями я признал, объяснив это необходимостью «полевых социологических исследований». О духовнике честно сказал: «Никакого духовника там у меня нет» (это было честно, потому что духовник у меня был в Москве). И обещал, что сейчас поступать в семинарию не буду (в моих планах это было сделать только через год).
— А на какую тему была Ваша дипломная работа в МГУ?
— Диплом у меня был по философии Франка и Хайдеггера, ну, с надлежащими прибамбасами и «выводами» о том, что их построения радикально антимарксистские и вообще не материалистические.
— И как складывалась Ваша дальнейшая жизнь?
— Понятное дело, что оставаться преподавателем в университете я не мог (хотя и было предложение — не с моей кафедры, а с кафедры эстетики), потому что это означало бы врать: врать студентам, врать на кафедре... Надо было уходить из университета и искать аспирантуру на стороне.
Вопреки слухам, чт!о распускают про меня рериховцы, я никогда не преподавал ни «научный атеизм», ни вообще марксизм-ленинизм. Именно ради того, чтобы устранить от себя такую необходимость, я отказался от преподавания и от вступления в КПСС.
На кафедре атеизма я учился не критиковать религию, а защищать ее от атеистического напора — ибо уже в самом начале учебы на этой кафедре начал отождествлять себя с той стороной, на которую атеисты нападали.
Рериховцы в каждой своей антикураевской публикации твердят, что Кураев — прожженный карьерист. Он якобы вовремя понял, что атеистическая система рушится, и поэтому быстренько начал делать себе карьеру в Православии.
Но ни одной атеистической лекции я в жизни не читал (свидетелей противоположного прошу откликнуться). Да, в комитете комсомола я отвечал за атеистическую работу. Но честно признаюсь, что это направление я завалил. Единственное «комсомольское дело», которое я сделал — это организовал для одного ПТУ, над которым шефствовал университет, концерт рок-группы «Воскресенье» (сегодня это кажется мне уже символичным).
Да, а уже для студентов кафедры атеизма я организовал посещения Музея древнерусского искусства (об этом может рассказать отец Александр Салтыков) и иконописного зала Третьяковской галереи. Там экскурсовод меня напугал, а моих коллег насмешил тем, что, показывая на икону святителя Николая Чудотворца, сказала: «Посмотрите на этот лик. Эта икона замечательна тем, что в ней мы впервые видим лицо типичного русака, а не грека. Вот у этого юноши (она показала на меня) в старости точно такое лицо будет!». Штирлиц был на грани провала…
Вновь напомню: в Церковь я пришел еще в 1982 году. «Перестройкой» тогда и не пахло. Сегодня это со стороны кажется «перетеканием из одной идеологии в другую, где для него открылись карьерные перспективы» .
Впрочем, рериховцы воспитаны в таком презрении к людям, что им в голову не приходит, что кто-то может быть с ними не согласен из мировоззренческих, нравственных, научных, а не из «корыстно-карьерных» побуждений. Эта их фантазма о моем карьеризме немало говорит о самих рериховцах. Один из признаков тоталитарности сознания — это неспособность понять, что человек может искренне меняться. Равно как и неспособность понять, что твой оппонент может быть не согласен с тобой по велению своего разума и совести. Рериховцы же все время считают, что их враги или подкуплены кем-то, или одержимы темными духами. А это уже опасно. Это признак тоталитарного мышления — когда твоя позиция кажется тебе единственно нормальной. Если такие люди дорвутся до серьезной власти, мало никому не покажется.
— И куда шел Ваш путь после университета?
— В Институт философии Академии наук. В те времена нужно было обязательно куда-то трудоустраиваться после университета, работать по специальности — «отработка диплома». И чтобы избежать преподавания «марксистско-ленинской философии», я поступил в аспирантуру Института философии. В аспирантуре я оказался по совету своего отца. Ведь там идейных требований, по большому счету, уже никаких. Спокойно учишься, осматриваешься, а потом…
Дело в том, что еще на четвертом курсе МГУ, через полгода после Крещения я очень твердо ощущал, что мой путь — это путь в семинарию.
И вообще о семинарии я впервые услышал на лекциях по научному атеизму. В этом было что-то мистическое. На кафедре (еще на третьем курсе) был закрытый спецкурс «Русская Православная Церковь сегодня». Читал Варичев — сотрудник Совета по делам религий. И он более подробно, чем это обычно делается, рассказывал о структуре Патриархии: какие там существуют отделы, сколько всего семинарий. И просто давал статистику: сколько студентов, сколько преподавателей, сколько из них в звании доцента, сколько профессоров и так далее. Он давал сухие цифры, но когда он их называл, меня вдруг пронзило глубочайшее ощущение, что я должен быть там. Странно: мне называют число профессоров в Академии, а я — студент-безбожник с кафедры атеизма! — вдруг ощущаю, что должен быть среди них. Я был тогда совершенно неверующим человеком. А на уровне рациональном (уже на переменке) это отрефлексировалось так: «Счастливые люди! Они могут говорить о том, во что они действительно верят, и они не обязаны цитировать Ленина на каждой лекции». Я им такой белой завистью тогда позавидовал.
Это было такое «дежавю» наоборот: вижу настоящую картинку и четко понимаю, что она будет в моем будущем. На другой лекции преподаватель зачитывает чей-то мемуар о посещении семинарии и произносит: «По лестнице сбегала стайка семинаристов». И я вдруг тоже отчетливо ощущаю: это из моей жизни, это про меня…
Потом это «дежавю» начало облекаться плотью. Помню первый свой вход в семинарию. Я приехал с рекомендательным письмом от калязинского батюшки (ныне отец Леонид Черняк, духовник Минской духовной семинарии), у которого говел перед этим Великим постом. Письмо было адресовано доценту Академии Виталию Кирилловичу Антонику (ныне профессору Минской Духовной Академии).
Знакомимся. Расспрашивает обо мне. Узнав, где я учусь, Виталий Кириллович вдруг говорит: «Вот и хорошо. Значит, оканчивай университет, приходи к нам, будешь вместо меня “Основное богословие” вести. Я-то по светскому образованию биолог, мне эта философия не то чтобы очень интересна!».
Я обомлел. Как-то трудно было себе представить, чтобы в светском вузе преподаватель сказал студенту: «Учись, а как только доучишься, я тебе свое место оставлю»…
Это сегодня может казаться странным, но в семинарию я шел без мечты о священстве (она представлялась слишком дерзкой для меня — как можно дерзать на такую мечту!). У меня не было совершенно никакого плана о том, что будет со мной по ту сторону семинарии, как я буду дальше жить в Церкви. Настроение было одно: «Хоть хворостиной — да в церковной ограде торчать!». Семинария мне была дорога не как путь к священству, а как возможность пожить в Лавре, как возможность молиться, не прячась ни от кого. Семинария и Церковь для меня были тогда одним и тем же: поступление в нее означало просто попадание под благодатный покров Церкви. И все. Больше мне ничего не надо — только быть там…
В годы, предшествующие поступлению в семинарию, каждый раз прошение из ектении «И весь живот наш Христу Богу предадим» я так переводил с церковнославянского на русский: «Господи, помоги мне поступить в семинарию!».
Было бы просто нечестно остановиться на полдороге. Если уж я пришел к вере и не могу молчать о ней (и действительно не молчал: своим друзьям в университете я открыто об этом говорил) — то надо обрести право на этот разговор. Как Алеша Карамазов в свое время решил: «Сказано: раздай все и иди за Мной . И Алеша подумал: не могу я вместо всего отдать пять копеек, а вместо иди за Мной ходить лишь к обедне».
Очень резанула меня тогда строчка Арсения Тарковского: «Быть может, идиотство — сполна платить судьбой за паспортное сходство строки с самим собой». Но я остро ощущал: за право говорить о Евангелии надо именно «платить судьбой», и не меньше.
Такова была плата за богословское образование в советские времена. В «домашних условиях» богословское образование получить было нельзя из-за отсутствия книг. Значит, в семинарию юноша приходил, еще не зная вполне веры Церкви. Но за эту еще неведомую ему веру он уже готов был расплачиваться судьбой. Если такой решимости в нем не было — богословский мир оставался для него закрытым. На пороге семинарии требовалась решимость, согласие с верой Церкви, а не ее глубокое понимание. По сути любой неофит должен ответить на один вопрос: «Веруешь ли ты, что глокие куздры штеко курдячат бокрят? — Ей, честный отче, верую так и исповедую, и анафематствую трижды всех тех, кто верует иначе!».
Теперь я могу сказать, отчего я не люблю рассказывать о своем приходе к вере ни журналистам, ни в аудиториях. Я говорю о самом дорогом для себя, а как показывает опыт, это, увы, перевирается и профанируется как угодно. Например, корреспондентка «Московской правды» Т. Суворова 16 июня 1989 года опубликовала интервью со мной (наверно, это было мое первое интервью). В ее передаче мотив моего перехода в семинарию выглядит так: «...Потом возникло желание почитать богословскую литературу. После окончания МГУ я подал документы в духовную семинарию». Да упаси Господь наши семинарии от студентов, идущих туда из желания «почитать богословскую литературу»! — а не из желания всей жизнью служить Богу и Церкви.
Но сразу после университета уйти в семинарию мне бы не удалось: во всех анкетах красовалась «кафедра атеизма» в качестве последнего места работы, да еще «красный диплом» МГУ. Если бы я шел в семинарию прямо с кафедры атеизма, то путь мне перекрыли бы сразу. Сама же семинария испугалась бы скандала. Другое дело, если бы меня выгнали из аспирантуры… Получилось бы, что я неудачник, двоечник. Вот с этим советская власть уже смогла бы смириться. Поэтому я поступил в аспирантуру — с намерением проучиться там лишь год, без защиты диссертации. Защищаться было нельзя. К тому времени я уже достаточно хорошо знал схему церковно-государственных отношений и прекрасно понимал, что поступить в семинарию я могу только чудом. Потому что людей с высшим образованием туда не очень-то пускали, москвичей тем более, а с кафедры атеизма, так и говорить нечего. А если я еще ухитрюсь защититься... Кандидата идеологических наук никто не пустит.
А в аспирантуре Института философии я уже не был связан с атеизмом, название моего сектора было: «сектор современной зарубежной философии». И власти уже привыкли, что кто современной зарубежной философией занимается, тот марксистом перестает быть.
Когда же прошел год и можно было в анкетах писать, что я не из университета, а из этой аспирантуры, тогда и пошел в семинарию.
— Уже без проблем?
— Как сказать. Ректор Академии и семинарии не мог своей властью принять преподавателя на работу, не мог своей властью принять студента на учебу — все нужно было согласовывать с Советом по делам религий. Однако существовала «номенклатура» ректора Московской Духовной Академии, то есть те должности, на которые он мог назначать своей властью. Это было единственной свободной нишей в Церкви. Можно было взять сторожей, дворников, кочегаров храма — и это не нужно было согласовывать с властями. Вот почему церковные сторожа в те годы были самой образованной прослойкой Москвы. И владыка ректор — архиепископ Александр, нынешний Саратовский ,— взял меня вахтером.
Правда, посадил он меня не на проходной, а в своей приемной. По сути я на несколько месяцев стал его секретарем. Это был ясный жест: «Привыкайте, этот человек уже здесь, в семинарии, мы его не прячем, и я ему доверяю!». Это было в ноябре 1985 года.
Ну, а летом 86-го уже можно было поступать на учебу.
— Ходят разные анекдоты о Вашем поступлении, о загадочных буквах МДА...
— Это правда, было такое.
— А что именно?
— При поступлении в семинарию очередная рогатка состояла вот в чем. Естественно, я был членом комсомола, потому что в комсомол вступают в четырнадцать лет, а крестился я только в девятнадцать. Так вот, когда юноша поступал в семинарию в советское время, получалась такая апория. Дело в том, что власти играли с Церковью в кошки-мышки. Они не говорили прямо, что «мы хотим вас гноить»,— в 70–80-е годы так уже не говорили. Они делали вид, что они все делают в интересах Церкви. Вас душат, но ради вашего же здоровья.
И когда, к примеру, уполномоченный Совета по делам религий объясняет ректору, почему он не разрешает принять этого юношу, он находит какой-то благовидный, почти благочестивый предлог. Он говорит: «Видите, этот молодой человек — комсомолец. Вы понимаете, что комсомол — атеистическая организация. Ведь нехорошо, если в числе семинаристов окажется человек с двойной моралью, нечестный человек?». А если этот молодой человек уйдет из комсомола до поступления в семинарию, то уполномоченный скажет: «Комсомол — это советская структура. Получается, что он антисоветчик, да? Вам нужны антисоветчики? Вам нужны неприятности? Мало вам одного Якунина?».
Поэтому написать заявление: «Прошу не считать меня комсомольцем, потому что я уверовал» — означало расстаться с мечтой о семинарии. И я решил просто тихо уйти: забрать свою учетную карточку в райкоме, торжественно ее сжечь и таким образом исчезнуть из поля зрения комсомола. Вот, прихожу в райком, говорю:
— Вы знаете, ухожу я из аспирантуры Института философии, надо переводиться, поэтому дайте мне учетную карточку.
Мне говорят:
— А куда Вы переходите?
Говорю:
— Я в другой город уезжаю,— что было чистейшей правдой, ведь я из Москвы в Загорск уезжал.
— Но если в другой город, то мы не можем Вам дать, потому что у нас есть специальные курьеры, которые специальной почтой перевозят учетные карточки и другие документы.
Я спросил что-то еще, а регистраторша говорит:
— Вот если бы Вы переходили в Москве, из одного райкома в другой — тогда мы бы дали документы Вам на руки.
Узнав об этом, я решил прийти на следующий день, когда по расписанию там должна была сидеть другая девушка. Прихожу и говорю:
— Вы знаете, я перехожу на другое место работы. Мне нужна учетная карточка.
Она говорит:
— Куда?
Я говорю первое, что пришло в голову:
— В Таганский райком.
Она говорит:
— Хорошо, вот Вам Ваша карточка, но мне нужно записать, куда Вы направляетесь, на учет какой комсомольской организации.
Этого я совершенно не ожидал, но вспомнил, что на Таганке находится Центральный дом атеизма. Думаю: «Раз есть Центральный, то, наверное, есть и Московский дом атеизма». И говорю:
— Московский дом атеизма.
Она по документам видит, что я по профессии идеолог-философ, так что все выходит логично. И начинает писать... В анкете же надо все коротко. И я говорю:
— Напишите сокращенно: МДА.
И она пишет: «МДА»…
Я думаю, последующие историки будут немало удивлены тем, что, согласно райкомовским документам, в начале 80-х годов в МДА (Московской Духовной Академии) существовала комсомольская организация...
— А КГБ Вас тревожил?
— Однажды (конечно, само не зная об этом) даже помог. Точнее, не он сам, а миф о его всевластии. Я только окончил университет. Лето. Из Лавры почти не вылезаю. И тут в Лавру приехала группа преподавателей и аспирантов с моей кафедры — сопровождая каких-то зарубежных «религиоведов». О том, что тогда произошло, я узнал только спустя годы. Они быстро заметили меня. Я же их в упор не видел — в самом буквальном смысле слова. В те годы, входя в храм, я снимал очки. И становился почти слепым — чтобы ничто не отвлекало от молитвы. Силуэты людей при моих «минус пяти» видел, а лиц — нет. Вот и в то утро. Сначала я стою в Успенском соборе на литургии, затем иду к мощам преподобного Сергия в Троицкий собор, потом в надкладезную часовню за святой водой… И университетская группа все время ошалело переходила следом за мной — удивляясь и тому, что я все делаю «как положено», и тому, что никак не реагирую на их присутствие. И в конце концов они решили: «Не зря он не реагирует на нас; наверно, он тут по специальному заданию, и мы не должны его расшифровывать». Так, сочтя меня за засланца КГБ, они тихо удалились, не поднимая скандала.
— А Вы чем-то КГБ помогали?
— Был один эпизод, когда я, наверно, помогал Комитету, сам, впрочем, тоже не зная этого. Это было весной 1982 года, еще за полгода до моего крещения. Нас, студентов, специализирующихся на атеизме, пригласил завкафедрой и сказал, что горком комсомола проводит социологическое исследование религиозности молодежи. Поэтому нам поручается провести полевые социологические исследования методом прямого наблюдения. Мы должны по воскресеньям ходить в московские храмы и затем заполнять анкеты. Храмы были определены близлежащие к МГУ: Троицкий на Воробьевых горах, Новодевичий монастырь, Николы в Кузнецах, Николы в Хамовниках и Иоанна Воина (кстати, потом, помня об этом и боясь новых поколений «социологов», я специально избегал этих храмов до своего поступления в семинарию). Мы должны были прийти к проповеди, узнать имя проповедующего священника, перенести его проповедь в анкету (по пунктам: к кому обращался, было ли специальное обращение к молодежи, цитировал ли только Библию и отцов Церкви или же и светскую прессу и литературу, к чему призывал). Надо было на глазок указать число прихожан, из них молодых, и, если сможем опознать,— отметить, встречали ли мы там лица, знакомые по университету (имен называть не требовали — иначе это слишком откровенно стало бы доносом)…
Поначалу я не мог отличить чтение Евангелия от проповеди. Пробовал расспросить прихожан — когда будет проповедь и кто ее произносит — и удивлялся недружелюбной реакции прихожан, которые предпочитали не сообщать никакой информации странно любопытствующему незнакомцу. Проповеди меня никак не впечатлили: гладко-округлые, они не оставили никакого следа в памяти (хотя, казалось бы, первая услышанная живьем проповедь могла бы оставить хоть какой-то след).
Никакой «политики» не было, конечно, ни в проповедях, ни тем более в моих отчетах о них, но цифры я безбожно фальсифицировал. «Назло советской власти» я преувеличивал число прихожан, особенно молодых, и уверял, что священники совершенно спокойно сочетают знание святых отцов и светской культуры (как классической, так и современной). Вот, мол, официальная пропаганда твердит о кризисе религии, об умирании Церкви, о том, что вера — это удел пенсионеров, а я вам напишу, что молодежи в храмах много! Мне тогда казалось, что таким путем я хоть немного смогу помочь гонимой Церкви, опровергнув слухи о ее «отсталости»…
Спустя год я уже понял, что все было наоборот: ведь с точки зрения власти сообщение о том, что в таком-то именно храме много молодежи, было «сигналом». Причем сигналом не к пересмотру идеологии самой власти, а к тому, чтобы приложить свои «меры воздействия» к не в меру активному священнику.
Но факт есть факт: первые адреса московских действующих храмов я узнал, исполняя поручение горкома комсомола…
— Но ведь не всегда КГБ прятался за подставными лицами и организациями.
— Первый звонок в мою дверь прозвучал через два дня после того, как я подал документы в семинарию. На пороге стоял человек и протягивал красную корочку: «Я капитан такой-то». В квартиру я его не пустил, говорил на лестничной площадке... И началось многолетнее ломание, которое (мы потом с друзьями сверили) обычно шло по вполне определенной схеме.
Разговор, как правило, начинался с лести. «Вы такой талантливый человек. У Вас и в миру есть все возможности. Куда Вы идете? Я вот Вам расскажу, этой весной был в семинарии жуткий случай: представляете, один преподаватель, монах-архимандрит, не буду называть его имени, пригласил к себе в келию семинариста якобы именины отпраздновать, споил коньяком и изнасиловал». Слава Богу, что я до поступления уже год проработал в семинарии вахтером, поэтому знал, что все это вранье. А на другого этот рассказ вполне мог произвести впечатление. Даже на встречах со своими «подопытными» КГБ занимался распространением клеветы на Церковь и церковных людей. Потом в ход пускается следующее.
«Андрей Вячеславович,— называет гость меня по отчеству,— я Вам должен сказать честно: кое-кто не хочет, чтобы Вы поступили в семинарию. В Загорском исполкоме почему-то очень косо на это смотрят. Но, знаете,— продолжает чекист,— мы готовы все уладить, помочь Вам. Однако у нас должны быть на то серьезные аргументы, что Вы не антисоветчик и честный человек; ну, подумаешь, верующий, с кем не бывает... Знаете что? Давайте еще paз встретимся, поговорим, все обсудим... Вы не могли бы зайти к нам в Загорске? — и оставляет свой телефон.— Спросите Александра Николаевича».
И я оказываюсь перед выбором. Вернуться в мир я уже не могу, там я со всем порвал, на работу меня тем более не возьмут. А главное — мечта служить Церкви, к которой я шел уже несколько лет. Или какой-то ни к чему не обязывающий звонок... Сдаю экзамены и поступаю, прекрасно понимая, что это зависело вовсе не от того, как я их сдам. Все поступающие проходили сквозь сито КГБ и Совета по делам религий.
— Вы позвонили ему?
— Да. Разговор вроде бы ни к чему не обязывает. «Как себя чувствуете? Все нормально? Как кормят? Не устаете? Ну и слава Богу. Всего доброго». Все.
В чем смысл такого разговора? Человек позвонил, и это главное. Это своего рода проба на «советскость», тест на определение: диссидент ты или нет. Я не был диссидентом, меня не прельщал этот путь. И брезгливости от контакта с органами власти я не испытывал. Контакт контактом. Главное — не переступать черты: «не стучать», не сообщать им информации, которая могла бы помочь им в травле других людей.
В 60–70-е годы таким собеседованиям и такой фильтрации подвергались практически все семинаристы. Я поступил в 1986 году. Тогда фильтрация стала уже выборочной: обращали внимание лишь на тех, кто подает надежды, кто кем-то в Церкви непременно станет, если не завтра, то послезавтра. Мой класс в семинарии был элитарным, в нем учились только люди с высшим образованием. С нашим-то классом они и «работали». Между прочим, в нашем классе мы друг от друга этих контактов не скрывали, и более того — предупреждали друг друга: «Сегодня меня вызывают в известное место. Если что-то случится, то я там». Когда возвращались со встречи, рассказывали, о чем шла речь, о ком спрашивали, предупреждали, над кем нависла опасность.
— А где проходили такие встречи?
— Приходило, например, извещение с почты о посылке, идешь за ней, а там человек в сером плаще. Иногда самым неприкрытым образом караулили у выхода из семинарии: «Следуйте за нами». Приводили в конспиративное место. Их было несколько: в гостинице, в загсе, в Государственном музее, который находился в Лавре. Последнее предназначалось исключительно для бесед с монахами, которые за пределы монастыря выходили редко.
Начинался разговор. События не форсировались, ведь система была рассчитана навечно, на всю человеческую жизнь. Они это знали, и мы — тоже. Сначала ничего не предлагали — просто «приручали». Они уже знали о нас все, даже больше, чем мы сами. Ясно было, что у них есть и хорошо разработанные методики психологической обработки. Первые фразы обязательно были «высокие»: «Мы так же, как и вы, хотим блага Православной Церкви». Осторожное касание политики. А затем — ни к чему не обязывающая болтовня. Какие-то пустяки, Но каждый раз добавляется по песчинке. Например, показывают фотографию кого-нибудь из моих сокурсников по семинарии и говорят: «Нам только что передали карточку, надо теперь узнать имя, вы не можете нам помочь?». Конечно, они и имя его знают, и уж тем более фамилию. Просто это делалось для того, чтобы хоть полную чепуху, хоть совершенный «пустячок», но человек сделал по их просьбе.
— Подписку требовали?
— До требования в моем случае дело не дошло, но уговоры были. Типа: «Ну, пожалейте меня, на меня мое начальство давит. Мы с Вами уже год встречаемся, а никаких результатов, я же должен чем-то отчитаться, хоть что-то начальству предъявить. А Вас это в общем-то ни к чему и не обяжет…». Подписки на сотрудничество я не давал. Самое серьезное «предложение», которое было сделано,— написать свои соображения о том, как улучшить... противопожарную безопасность здания семинарии. Это на самом деле была очередная «наживка» — просто надо было приучить человека к тому, что он им все время что-нибудь пишет.
— Но где вербовка, там и шантаж…
— Да, использовались и методы неприкрытого шантажа. Например, заводились у семинариста знакомые в городе. Его приглашали в гости, а это оказывалась специально оборудованная квартира. А дальше все, как в детективе. Подсыпают кое-что в рюмочку, человек впадает в беспамятство. А месяца через два ему показывают разные пикантные фотографии. Прием, кстати говоря, формально в органах запрещенный, но им пользовались в работе и с семинаристами, и с секретарями обкомов. Во всяком случае, однажды у меня возникло подозрение, что меня втягивают именно в такой сценарий,— и пришлось спешно убегать от одной знакомой…
— А просто сказать «нет» чекистам было нельзя?
— Открыто, по-моему, мало кто решался. Но можно было прибегнуть к разного рода уловкам типа «я потерял ваш телефон» или «я должен посоветоваться со своим духовником или с ректором». Последних, кстати, такого рода советы не смущали. Мы действительно с ними советовались, и никого это не удивляло. Один из нас, правда, поступил остроумнее всех: он предупредил чекистов, что во сне разговаривает. И, знаете, отстали...
— Но не все же беседы были формально-бессодержательными?
— Дальше чекисты предлагают давать какие-то отзывы. Сначала — об иностранцах. На это ведь легче согласиться: иностранцы приехали и уехали, говори и пиши что хочешь, никто от этого не пострадает. Но протокол составят: «Такой-то и такой-то по нашему заданию встречался с гражданином такой-то страны. Показывает то-то и то-то»... Но приходит день, когда надо «повязать» человека окончательно: сделать агентом и дать ему кличку. Мой Александр Николаевич мне так прямо и сказал: «Понимаете, я ведь отчитываюсь перед начальством, и я должен как-то называть Вас». Я предложил все-таки называть меня по фамилии и никакой клички не взял. Другие поступали иначе. Иногда давали клички и без ведома.
— И часто Вы встречались?
— Иногда удавалось избежать встреч на несколько месяцев. Но в конце концов я стал ощущать очень сильное давление. Все началось с моего выступления в Коломенском пединституте в феврале 1988-го. Тогда образовался поразительный разрыв между настроениями в обществе и тем, что происходило в церковно-государственных отношениях. Всюду — весна, но в религиозной политике все еще ледниковый период (перемены начались лишь летом 1988-го, во время празднования тысячелетия Крещения Руси). Сначала на этом зазоре «ожегся» нынешний патриарх Алексий. В конце 1985 года он написал письмо Горбачеву с предложением изменить партийно-государственную политику по отношению к Церкви. В итоге его сняли с поста управляющего делами Московской Патриархии (ключевой пост при больном и престарелом патриархе Пимене) и направили в провинцию — в Ленинград … На своем уровне и в свою меру пришлось и мне уколоться об этот же незаметный изгиб «перестроечной» политики.
Зал в Коломне был переполнен, студенты едва не на колоннах висли. Здесь же и вся профессура. Дискуссия была жаркой, но очень быстро стало понятно, что ход ее складывается в мою пользу... В принципе, всё, что знали коломенские преподаватели, знал и я, только в более свежем виде, как недавний выпускник кафедры атеизма. Зато они не знали многое из того, что уже знал я как человек, уже оканчивающий семинарию и просто живущий в Церкви. И, главное, на моей стороне была убежденность. Получился скандал. Неизвестный семинарист переспорил партийных пропагандистов . Вскоре вышло постановление Московского обкома партии «О неудовлетворительной постановке атеистического воспитания в Коломенском пединституте». И хотя во время дискуссии я не представлялся, фамилию не называл, меня «вычислили», и пошли неприятности.
— А какие могут быть неприятности у семинариста?
— В апреле 1988 года ЦК комсомола Белоруссии и республиканское телевидение устраивало в Гродно одно из первых в стране молодежных «ток-шоу». Организаторам хотелось, чтобы на нем были представлены молодые люди из «неформальных» организаций, в том числе и кто-нибудь из семинаристов. В общем — те, кто идут «неправильным путем» с точки зрения поколения отцов-коммунистов. Поскольку еще раньше у меня установились связи с белорусским журналистами — обратились ко мне. Я получаю официальный вызов (на бланке Госкомитета по ТВ), подтвержденный телеграммой митрополита Минского Филарета, иду с ним к ректору Академии, он, конечно, благословляет мой отъезд… Когда же через несколько дней я возвращаюсь в семинарию — меня там встречает новость: мне объявлен выговор «за самовольное оставление стен духовной школы». Я иду к тому проректору, чья подпись украшала этот документ (выговоры у нас вывешивались публично, на доске объявлений) и говорю:
— Чем я согрешил? Какая самоволка? Я ехал по приглашению митрополита, члена Синода. Моя поездка была согласована с ректором Академии.
В ответ мне говорят, что моя в вина в том, что я не написал прошение на имя этого проректора… Опять не соглашаюсь:
— Какое прошение? Я же не прошусь, а исполняю уже данное мне послушание!
Видя, что его доводы меня не убедили, проректор добавил:
— Ну, понимаешь, Андрей, ведь идет Великий пост. Это время не может обходиться без искушений…
Вот с той поры меня тошнит от преизобилия нашего церковного словесного «елея». Ему ведь КГБ велел меня приструнить, а он начал благочестивые турусы на колесах громоздить…
— А откуда Вы знаете, что это была инициатива КГБ?
— Так ведь спустя месяц другой проректор Академии намекнул мне, что все мои неприятности (а к тому времени кроме выговора, меня еще уволили из иподиаконов, а моим одноклассникам открыто говорили, что меня вот-вот отчислят из семинарии) из-за того, что «ты на диспуты всякие ездишь». Ведь был 1988 год, тысячелетие Крещения. Как Москву «чистили» перед Олимпиадой, так теперь «чистили» Лавру. Спустя всего лишь два года в «Московском комсомольце» были опубликованы фрагменты архива оперотряда МГУ, из которых следовало, что мои встречи не только с коломенскими, но и с московскими студентами не прошли незамеченными .
— И чем все разрешилось?
— Наверно, в конце концов все же решили не плодить диссидентов накануне празднования тысячелетия. Ведь много иностранцев приедет. А у меня к тому времени уже вышла первая богословская публикация — в самиздатском журнале «Выбор». Его издавали Виктор Аксючиц и Глеб Анищенко. Открытые и известные диссиденты... И хотя моя статья была под псевдонимом (Андрей Пригорин), наши контакты вполне могли быть замечены кем надо.
Так что семинарию мне дали окончить. Затем, летом — торжества. И перемена климата. Первая моя открытая статья в «Московских новостях» — в августе , затем — в «Вопросах философии» , первая публикация в церковной прессе … В конце концов за меня вступился ректор — архиепископ Александр. Очевидно, он смог договориться с органами, чтобы меня не выгнали, но просто послали учиться в духовную академию в Румынию. Компромисс состоял в том, что и советская молодежь оставалась в безопасности, и я — в Церкви.
Странное дело, но в Румынии меня никто не трогал. Лишь однажды один сотрудник советского посольства позволил себе намек на свою связь с органами — он упомянул такое обстоятельство моей биографии, о котором я ему точно не рассказывал. Значит — «наводил справки»…
Последняя моя встреча с ними была уже после возвращения, в августе 1991-го, дней за десять до путча. Был перенос мощей преподобного Серафима Саровского. На обратном пути в самолете ко мне подсел незнакомый «товарищ» и начал опять ту же «песню»: «Отец Андрей, мы давно хотим с Вами познакомиться. Не затруднит ли Вас позвонить в Москве вот по этому телефону...». Слава Богу, не пришлось...
— Не считаете ли Вы, что Ваш рассказ о работе КГБ среди священников подорвет доверие людей к Церкви?
— Я рассказал все это, потому что еще не уверен, что подобное повторяться не будет. Поэтому я хотел бы попросить всех, кому пришлось пройти через что-то подобное (особенно людей, служащих в Церкви), не молчать, но рассказывать, как именно работали с ними чекисты и как можно подобному противостоять.
А всем остальным я хотел бы в связи с тем, что сейчас пишется об отношениях высших церковных иерархов с КГБ, сказать следующее: если вы узн!аете, что члены коллегии минздрава назначались по согласованию с КГБ, вы ведь не перестанете ходить в поликлинику и не станете всех врачей считать «чекистами в белых халатах»? Но так же и с Церковью: если был грех на совести иерархов — это их забота.
Греха нет на Христе. И нет на священниках, которые никого не предавали. Если вы сейчас отвернетесь от Церкви — это будет посмертный триумф КГБ.
— Ну, мы слишком много говорим о том, что было за стенами семинарии. А что дала Вам учеба в ней?
— Много. Начиная от опыта жизни в общежитии и кончая тем, что семинария научила меня читать. Не смейтесь, это именно так. В светском университете учат прочитывать, пролистывать, пробегать, проходить… Там стремишься к скорочтению, учишься читать книги «по диагонали», улавливать «главную идею». А те дивные лекции по Ветхому Завету, что читали мне в первый год моей учебы в семинарии (лектор — протоиерей Владимир Иванов, сейчас служит в Берлине), были замечательны именно замедленностью своего сюжета. Библия разбиралась слово за словом, а не глава за главой.
Кроме того, советская школа учила на все былые века и их творения смотреть сверху вниз: «Гегель понял, да не допонял, Белинский шел, да не дошел». А тут перед тобой книга, о которой заведомо известно, что именно тебе надо дорасти до ее уровня, а не ее подвергать своей верхоглядной цензуре. Значит — учись понимать. Учись читать.
— Из Ваших однокурсников, друзей по семинарии кто-то еще стал заметен в церковной жизни?
— Ну, если совмещать все три названных Вами критерия: однокурсник, друг и последующее служение, имеющее более чем приходскую значимость, то я бы назвал четыре имени: Ростислав, архиепископ Томский; Юстиниан, епископ Тираспольский; Лонгин, епископ Саратовский; Марк, епископ Егорьевский. А вот профессоров-книжников из нашего кружка получилось неожиданно мало. По научно-педагогической стезе идет, пожалуй, лишь архимандрит Никон (Лысенко) — несколько лет он был заведующим кафедрой русской церковной истории в Санкт-Петербургской Академии.
— А почему «неожиданно»?
— Потому что наш курс был уникальным. Это набор 1985–1986 годов. Еще за несколько лет до этого принять сразу несколько десятков людей с высшим светским образованием было невозможно: советская власть такого не допустила бы. А уже через пару лет после этого вновь стало невозможно — поскольку пласт людей, уже имеющих университетские дипломы и при этом готовых вновь стать студентами, иссяк достаточно быстро. То есть и сейчас каждый год человек по пять таких «фанатиков» приходит в Московскую семинарию. Но целый класс — тридцать человек — составить из них уже невозможно.
Поэтому, кстати, чуть не половину нашего курса и направили на учебу в заграничные церковные институты. Это опять же была переходная эпоха. В западные образовательные центры ехать еще было нельзя. Но с духовными академиями Восточной Европы сотрудничать уже было можно. Так что у ректора Академии, наверно, была надежда, что из нас он воспитает целое поколение новых преподавателей.
Наш ректор вообще был очень своеобразным человеком. Сам он не был ни богословом, ни хорошо образованным человеком. Но у него были два дара: рассудительность и преданность родной Академии. Три его предшественника на посту ректора покидали этот пост с резким повышением — получая членство в Синоде. Мне же он открыто сказал, что всю жизнь собирается служить Академии (и в самом деле, когда в 1992 году ректора сменили, владыка Александр несколько лет просто жил в доме в Загорске рядом с Лаврой и никуда не просился).
Так вот, в одном отношении это был пример нормального древнерусского церковного простеца: сам не будучи книжником, он уважал знания и образованность в других людях. Он был невысокого мнения о научном потенциале вверенной ему Академии и постоянно говорил: «Нам нужны варяги». «Варягами» с той поры в Академии именуют светских ученых, пришедших сотрудничать с церковной школой. И я с первых же дней слышал от него: «Ищите таких людей и приводите ко мне».
— Хорошо, а что же дала Вам Румыния?
— Сама учеба дала немного. По сути это были годы самообразования: из Московской Академии после каникул я привозил чемодан книг и по ним сдавал экзамены в Бухаресте.
Но как опыт жизни это было важно. Во-первых, опыт самостоятельной жизни (в том числе в бытовом смысле). Во-вторых, я увидел нерусское Православие, увидел, что Православие — вселенская, мировая религия. Кроме того, в Румынии сохранилось много церковных народных традиций.
Например, в день освящения церкви доступ в алтарь открывается для всех. И мужчины и женщины могут в этот день войти в алтарь, поцеловать Евангелие и престол. Мне кажется это мудрым: трудами и жертвами этих людей и был построен этот храм. И поэтому позволение им в день приходского торжества войти и приложиться к святыне, созданной при их помощи, мне кажется вполне уместной формой выражения благодарности им. А поскольку доступ в алтарь открывается по окончании службы, которая вместе с освящением длится не менее четырех часов, то нецерковных людей рядом просто не останется, и потому не будет риска неблагочестивого отношения к святыне.
Еще один обычай, совсем не похожий на наш – это завершение диаконской хиротонии. После того, как епископ облачил ставленника в священные одежды, он выводит его из алтаря и ставит на амвон. У амвона ждет жена новопосвященного диакона и епископ представляет ей нового церковного служителя. Новоиспеченая матушка дарит своему диакону цветы; они целуются, и диакон возвращается в алтарь. У нас при посвящении в сан епископ, наоборот, снимает обручальное кольцо с женатого человека в знак того, что отныне он принадлежит уже не семье, а Церкви. В Румынской же Церкви подчеркивается, что связь с семьей не разрывается. Возможно, этот обычай родился как очевидное противоположение униатству и католичеству с их обязательным и безбрачием священнослужителей.
Но главное, что я увидел в Румынии - это живое, многоликое и неразрушенное монашество. Наши монастыри были разрушены и закрыты, а в никогда не закрывавшихся румынских обителях сохраняется то, чему нельзя научиться по книжкам.
Между прочим, это и особножитные монастыри. В России таких давно уже нет. В отличие от общежитного монастыря, анахорет живет только своим трудом, сам себе готовит, сам растит себе пищу. Монахини зарабатывают себе на жизнь церковным шитьем. Причем самый большой монастырь современного православного мира – монастырь Агапия – объединяет вместе оба устава. Часть из тысячи его сестер живет общим хозяйством. Часть – индивидуальным. Но служба, духовник и игуменья при этом все же у них общие.
А вот в монастыре Черника я видел добрую практику общежития. Монастырь стоит на двух озерных островах. На дальнем от берега и от туристов острове – братское кладбище, кельи для престарелых монахов и кельи для юных послушников. На ближнем острове – храм, братский корпус, музей, административный корпус, трапезная. Это значит, что сначала юноша, поступивший в монастырь, должен пройти испытание ухода за больными и старыми монахами. По ходу общения он может перенять и их жизненный и духовный опыт. И лишь потом, уже повзрослев, он может влиться в общую жизнь монастыря.
Но самое важное в Румынии для меня состоит не в том, что я там видел, а в том, что там со мной произошло: меня рукоположили.
— А почему именно там?
— Во-первых, подходил к концу срок учебы. Надо было принимать решение о том, как дальше служить Церкви. Во-вторых, пребывание в Румынии давало мне определенную дистанцированность от контакта с советскими «аппаратчиками». Я представлял себе, чт!о в те годы означало пройти ставленнику (кандидату в священники) в Москве. Это многократные собеседования, смысл которых в том, чтобы заверять всех в своей лояльности к соввласти. И это в любом случае подписание в Патриархии бумаги с обязательством соблюдать каноны Церкви и светские законы. Первое мне было по сердцу, а вот давать обязательство в верности советским законам не хотелось. Ведь советское законодательство о культе не предусматривало права на религиозную проповедь. Конституция СССР гласила: «Граждане имеют право вести атеистическую пропаганду или отправлять религиозные культы». Статья явно асимметричная: только за атеистами признавалось право на распространение своих убеждений.
Православная Вселенская Церковь одна. По канонам человек может принимать рукоположение в любом городе у канонического православного епископа при условии, что епископ его родной Церкви, той епархии, с которой он был прежде связан, согласен на это. Хиротония же в Румынии давала возможность избежать нежелательных собеседований, контактов, обязательств, слов…
На рождественских каникулах 1990 года я пошел к отцу Кириллу (Павлову) на ставленническую исповедь. Он благословил меня на принятие сана. От его келии я побежал в Академию — к ректору. Тот начал уговаривать меня принять монашество. Но ссылка на благословение старца Кирилла (и его молитвы; в минуту, когда ректор уже уходил, я в сердце взмолился: «Господи, по молитвам отца Кирилла, вразуми его!») превозмогла — «Ладно, давайте Ваше прошение!».
Прошение студенты пишут в форме: «Прошу Ваше Высокопреосвященство ходатайствовать перед Святейшим Патриархом о моем рукоположении в сан…». Соответственно, ректор написал обращение к патриарху Пимену. Патриарх благословил мое рукоположение. И затем уже председатель Отдела внешних церковных сношений (только что на это пост был тогда назначен архиепископ Кирилл) пишет письмо Румынскому патриарху Феоктисту, в котором по благословению патриарха Пимена просит патриарха Феоктиста рукоположить русского студента. И по окончании учебного года — в воскресенье 8 июля, в день святых Петра и Февронии,— в Патриаршем соборе Бухареста прошло мое посвящение во диакона .
— А почему ждали конца учебного года?
— Сначала была обычная бумажная волокита. А потом уже я попросил немного подождать — чтобы из Москвы мог после сессии приехать мой младший брат. Он впервые (тогда ему было 19) выехал из СССР. Кстати, родителям о принятом решении я ничего не говорил. Просто вышел к ним в рясе из поезда, уже приехав в Москву…
После службы я месяц возил брата по румынским монастырям. Хотел показать румынскую монашескую жизнь ему, а получилось, что прощался с нею сам… Уже на обратном пути спросил его:
— Дим, так а что тебе запомнилось больше всего?
Думал, что он скажет что-то про море или про красоту Карпат… А он задумался и выдал:
— Оказывается, епископы могут быть худыми.
В общем, в Москву я ехал просто на каникулы. Вещи остались в Бухаресте.
— И в Москве Вас ждало знакомство с новым патриархом?
— Именно так. В мае 1990 года скончался патриарх Пимен. В июне был избран Алексий. Ни с прежним, ни с новым патриархом я не был знаком прежде. Так что эти перемены никак не соотносил со своей судьбой.
Я просто пришел в родную Академию, к ректору, чтобы представиться в новом сане. Ректор принял меня хорошо, настроение у него было благодушное. И тогда я решил высказать ему свою дерзновенную мечту:
— Владыко, многое уже изменилось за эти два года. Другой политический климат у нас в стране, новый председатель Комитета по делам религий, новый патриарх, новый председатель Отдела… Может, теперь я мог бы вернуться в Академию и доучиваться здесь?
Он минутку подумал:
— Да. Теперь можно. Мы сделаем так. Восстановим Вас на третьем курсе Академии и при этом дадим вести какой-нибудь предмет в семинарии. Будете совмещать преподавание с учебой. Я еще подумаю, как это сделать — зайдите ко мне через недельку!
А через неделю я услышал нечто совсем для меня неожиданное. Ректор сказал мне, что он говорил обо мне с новым патриархом. Святейший собирает себе «команду», ищет помощников.
— В общем, сегодня он служит в Лавре, и на всенощной Вы должны подойти к нему и представиться.
Так я впервые подошел к патриарху, и наш первый разговор начался довольно примечательно. Патриарх сказал, что слышал обо мне как о человеке, у которого есть харизма к писательству. На что я быстро ответил: «Нет».
— Вообще-то, патриархам такое не говорят, но что вырвалось… Первоиерарх не обиделся?
— Но я действительно считал, что мое призвание не в сочинительстве, а в педагогике, пишу же я от лености — чтобы двадцать раз не повторять одно и то же. И сейчас, кстати, я пишу скорее «от безысходности». Я невысокого мнения о своем публицистическом таланте, а тем более богословском. Пишу на какую-либо тему только тогда, когда вижу: никто больше этого не делает.
Тогда же патриарх улыбнулся. Потом началась нормальная работа.
— А можете ли Вы вспомнить Ваше первое задание, полученное от патриарха?
— Мой первый рабочий день в Патриархии совпал с получением скорбной вести об убийстве отца Александра Меня. И первое послушание было связано именно с подготовкой телеграммы соболезнования .
— Работая с патриархом всея Руси, Вам пришлось столкнуться с какими-то интригами, внутрицерковной борьбой? Не стало ли это для Вас тяжестью, не привело ли к негативным ощущениям?
— Думаю, что нет. Я ведь не с улицы пришел, несколько лет семинарской жизни тоже не всегда сахаром были… К тому же, я совсем не интриган по натуре.
— Можете ли Вы рассказать, какое именно влияние Вы имели на этом посту, что смогли там сделать?
— Кажется, я помог городу на Неве вернуть его имя… 12 июня 1991 года в Ленинграде проходил референдум, посвященный переименованию города. Прогнозы социологов были весьма кислыми: колыбель революции не желала расставаться с именем Ленина. «Наиболее авторитетные социологи в период, предшествующий опросу, представляли данные о некотором численном преимуществе противников переименования» .
Я же попросил патриарха Алексия выступить с обращением к его недавней пастве (до избрания на кафедру Московских патриархов он был митрополитом Ленинградским) и призвать ее вернуть имя святого Петра. Патриарх, подумав, решил, что от своего имени делать это будет ему неуместно, но благословил мне сделать такое обращение, официально подписавшись не просто диаконом, но сотрудником Патриархии.
Я написал соответствующий текст, послал по факсу Собчаку, и по его распоряжению оно было немедленно опубликовано в четырех пока еще ленинградских газетах.
«Есть слова, имена, мысли, дорогие нашему сердцу. И если их нельзя безопасно говорить и нельзя поэтому поминать их всуе, они не исчезают. Напротив, они становятся еще сокровеннее, еще дороже. Таким именем для всех нас стало и имя нашего города на Неве. Ленинградом назывался футляр, идеологический каркас, в который было велено уместиться граду святого Петра. И в самые нелегкие годы, когда нам хотелось с любовью и теплотой говорить о нашем городе, мы вспоминали то имя, что было ему дано в его крещальной купели.
И в самом деле, что составляет неповторимый лик нашей северной столицы — то, что в нем связано с именем Петра или с именем Ленина?
Впрочем, как естественно сопрягаются святыни города — Исаакиевский собор и Спас-на-крови, Эрмитаж и Невский, Петропавловка и Адмиралтейство — со словом “Санкт-Петербург”, столь же ощутима натужность имени Санкт в тех районах города, которые были построены в “ленинградский” период. В самом деле, что от Санкт-Петербурга, его духа, гармонии и истории есть в новостройках Озерков?
Поэтому-то мы и стоим действительно перед выбором: где сокровище наше, где сердце наше, к чему обращена любовь наша? Именно это и обнаружит опрос жителей города об его имени. И мы надеемся, что возвращение городу названия Санкт-Петербург повлечет за собой и преображение жизни в его новых районах.
Город же должен помнить своего основателя императора Петра и носить имя своего молитвенника — апостола Петра. По замыслу своего основателя, именование столицы России Петербургом должно было свидетельствовать еще и о том, что Россия вошла в сообщество европейских государств, а ее столица — в содружество столиц северных морей.
Мы, верующие Руси, земно кланяемся подвигу блокадников и понимаем, что в их памяти блокада была именно “ленинградской”. Такой она, наверное, навсегда останется в памяти всего нашего народа, так же, как и битва на Волге всегда будет “Сталинградской”. Сам же Сталинград носил это имя не в память о битве, а в честь Сталина, так же как Ленинград несет в себе память не о ленинградской блокаде.
Мы надеемся, что в городе, который вновь будет называться Санкт-Петербургом, не забудут о блокадниках-ленинградцах, о их былом подвиге и о их нынешних нуждах.
И мы надеемся, что жители града Петрова выскажутся за возвращение городу его исторического и священного имени — Санкт-Петербург» .
«10 июня было уже очевидно, что отречение (от имени Петра.— А. К.) практически неминуемо. И хотя накануне с призывами выступили и академик Дмитрий Лихачев, и председатель Ленсовета Анатолий Собчак, социологи подвели черту: даже до половины “петербуржцы” не дотягивали. И первый секретарь обкома КПСС Борис Гидаспов мог взять моральный реванш : ничего у вас не выйдет. И вдруг — в четырех городских газетах совершенно фантастическая даже по нынешним временам публикация. “Позиция Московской Патриархии”: “Ленинградом назывался футляр, идеологический каркас, в который было велено уместиться граду святого Петра”. Это подействовало даже на ленинградских коммунистов. “Ленинградская правда” дала краткое сообщение об этом. Скупые петитные строки, посвященные позиции Московской Патриархии, стали сигналом к спешной ретираде. 54,86% — за Санкт-Петербург, 42,68% — за Ленинград» .
Таково же мнение главного ленинградского социолога: «Напомним, что именно на последнюю неделю, предшествовавшую 12 июня, пришлись выступления в поддержку возвращения городу исторического названия наиболее авторитетных деятелей Церкви, культуры и городской власти. Поэтому и неудивительно, что большинство колебавшихся сделали выбор в пользу Санкт-Петербурга» .
— А что еще Вы сделали?
— Лучше скажу, чего я не делал: я не писал речи Патриарха перед раввинами (хотя в «патриотической» прессе потом неоднократно писалось, что это якобы я навязал эту речь Патриарху).
— Какое Ваше главное приобретение за годы работы рядом с Патриархом?
— Для меня эта работа значила то, что я получил возможность изнутри посмотреть на образ принятия важных решений в сфере высокой политики. Приходилось общаться не только с иерархами Церкви, но и политическими деятелями страны. Для меня была расколдована власть. Я понял, что нет автоматической машины истории, что фантастически много зависит от поступков конкретных людей. При этом сам я никогда не стремился заниматься политикой — ту деятельность воспринимал скорее как послушание.
— Вы несколько лет работали с патриархом Алексием. Можете что-то о нем рассказать?
— Если я честно скажу то, что больше всего меня поражало и поражает в патриархе Алексии, то это будет слово в мое собственное обличение... Наша вера называется православной. Славянские народы в греческой ортодоксии расслышали не «правоверие», а «Право-славие», умение правильно прославлять Господа. Оттого критерий «успешности» церковного восхождения человека — не его сан и не ученые звания, а его отношения со своей собственной молитвой. Утомляет человека молитва или окрыляет. Отбирает «последние силы» или же придает новые.
Когда я познакомился с патриархом Алексием, ему был 61 год, мне — 27 лет. Патриаршие службы, как известно, длительны. 3–4 часа. Причем Патриарх ведет службу, а значит, он все время на виду, никуда не может укрыться. Так вот, у меня, молодого человека, после праздничной патриаршей литургии часто оставалось лишь одно желание: тихонечко отлежаться где-нибудь часика два. А патриарх после литургии сразу ехал в Чистый переулок и до позднего вечера еще работал. Значит, литургия придает ему силы. Значит, не напрасны ни его молитва, ни молитва всей Церкви о нем.
Пожалуй, ни один священник не служит так много, как Патриарх. Число храмов в Москве в два раза больше, чем число дней в году. А значит, и количество престольных дней весь московский календарь окрашивает в красный цвет. На большинстве престольных праздников народ ждет встречи с Патриархом, и Святейший едет к людям. На неделе у него 4–5 литургий. Много ли не то что приходских батюшек, но и монахов, чья литургическая жизнь столь насыщенна? И вновь скажу: для Патриарха отслуженная литургия — лишь начало дня, лишь опора для принятия последующих ответственных решений.
Господь на рубеже тысячелетий нам дал право-славящего Патриарха. Он молится о Церкви. Мы молимся о нем.
Для меня же опыт общения со Святейшим наполнил очень личным смыслом привычное прошение: «Еще молимся о великом господине и отце нашем Святейшем Патриархе Алексии». Когда лично знаешь человека, поминание о нем идет с особой радостью. И вот эта наша возможность молиться о главе Русской Церкви как о личности (а не как о безликой структуре времен Святейшего Синода) оттеняет нашу скорбь о том, что не можем мы точно так же помолиться о человеке, а не о «власти» при поминании государства.
Сегодня в России нет монархии. Но это не означает, что в ней нет иерархии. Отсутствие самодержавия в России не означает, что с православного человека снята обязанность научения послушанию. Просто школа послушания теперь находится в самой Церкви. И тот, кто дерзит Патриарху, будет дерзить и монарху. Вот изложение Патриархом очевидной нормы жизни в Церкви: «Решения соборов, Священного Синода, выступления предстоятеля Церкви по церковным вопросам — это официальная позиция Церкви, которая должна быть ориентиром для клириков, состоящих в ее юрисдикции. Лица, имеющие иные мнения, по меньшей мере обязаны воздерживаться от публичного оглашения их» .
Честно признаюсь, мне трудно вспоминать о годах работы со Святейшим Патриархом Алексием (я был его референтом в начале 1990-х годов). Трудно чисто технически: человек хорошо запоминает то, что он несколько раз проговорил вслух. Я же сознательно не разрешал себе копить «мемуары», ибо не я, а лишь сам Патриарх может определять, что из того, что он сказал мне в рабочем порядке, может становиться достоянием гласности.
Но один момент был полупубличен, и потому, наверно, можно сейчас о нем рассказать открыто. В 1991 году готовился первый визит в Россию Великого князя Владимира Кирилловича. Он написал Патриарху. В ответном письме Святейший Владыка решил затронуть тему отношений с Русской Православной Церковью Заграницей. Точного текста того послания я, конечно, не помню, но смысл его был ясен: отношение к памяти новомучеников, в том числе Царственных страстотерпцев, не может быть причиной для взаимного отчуждения. Мы по обстоятельствам нашей здешней жизни еще не можем гласно прославить Царскую Семью. Но если бы между нашей Церковью и Церковью зарубежной установилось евхаристическое общение, это само по себе означало бы признание всех канонизаций, совершенных в зарубежье. Мы просто присоединились бы к почитанию Царственных мучеников, уже сложившемуся в православной эмиграции. И таким образом начало почитания Царской Семьи в России стало бы символом соединения, а не нового витка общественных и церковных дискуссий.
Тогда сближения с русской зарубежной Церковью не произошло. Нам еще десять лет нужно было идти через эти самые дискуссии к Архиерейскому Собору 2000 года. Я же могу лишь свидетельствовать, что патриаршая позиция и тогда уже была благожелательной и в вопросе о соединении с зарубежной Церковью, и в вопросе о почитании Царственных страстотерпцев.
И еще одно воспоминание, опубликованное, но забытое. Анатолий Собчак, в конце 1980-х годов бывший весьма популярным народным депутатом, вспоминал, как на Съезде народных депутатов СССР был дан ответ академику Сахарову. Молодой ветеран афганской войны, депутат от комсомола, гневно возмущался отсутствием советского патриотизма в речах Сахарова. Под влиянием его эмоциональной речи зал поднялся и несколько минут скандировал: «Ленин! Партия! Комсомол!». Не встал лишь митрополит Алексий. Суметь устоять перед волной тысячного властьимущего зала не просто трудно. Мгновенно принять решение и не позволить втянуть себя в аплодисменты и крики в этой ситуации может лишь тот, у кого еще задолго до этого сложилась своя позиция. Не секундное мужество, в целожизненная решимость проявляют себя в таких случаях...
— Вы недолго работали с патриархом Алексием II. Известная Ваша строптивость стала причиной того, что вы расстались?
— С Патриархом я работал два года после возвращения из Румынии в 1990-м. Это были ключевые годы перемен — начало девяностых. Сейчас, с расстояния в десятилетие, это кажется недолгим. Но тогда каждый день был очень насыщен. Каждый месяц менял очень многое и стоил десятилетий стабильного пребывания.
— Почему Вы расстались с Патриархом?
— Я же честно сказал Патриарху, что вижу свое призвание в педагогике. У меня были случаи, когда я откладывал беседу с Патриархом ради детей. Скажем, у меня назначена встреча в какой-нибудь школе на 13 часов. К десяти часам я прихожу к Патриарху в надежде что-то с ним обсудить. Но тут к Патриарху приезжает один митрополит, другой… Какой-то VIP-посетитель… Конечно, я пропускаю их. И вот наступает минута выбора: или сидеть в приемной дальше, или бежать в школу. В таких случаях я все же всегда сбегал.
А в 1992 году был создан Российский православный университет — моя мечта. Во главе его встал очень близкий мне тогда человек — игумен Иоанн (Экономцев). Была надежда создать лучшее учебное заведение России, собрать под его сводами мыслящую интеллигенцию. Я помню эпизод года через два по создании университета: читаю лекцию своему родному курсу, который сам и набирал, пестовал… И, между делом, что-то цитирую из Аристотеля. А студенты не соглашаются — путаете, говорят мне! Немножко поспорили, и они доказали мне свою правоту. Конечно, меня это раздосадовало, от студентов это не скрылось, и один хлопец вдруг начал меня утешать: «Отец Андрей, да Вы так не переживайте — мы же всё понимаем! Вам же негде было получить нормальное образование». Для меня это была высшая похвала — значит, нам все же удалось создать нормальный университет!
— После того как Вы перестали работать непосредственно с Патриархом, у Вас продолжаются с ним какие-то отношения?
— Знаете, я слишком уважаю время Патриарха, чтобы отбирать его для внеслужебных дел. Но один эпизод меня искренне удивил. В конце августа 2003 года я участвовал в литургии, за которой Патриарх рукополагал нового Саратовского епископа Лонгина. В конце службы по традиции всё служащее духовенство подходит к Патриарху под благословение. Меня Патриарх встретил словами: «Отец Андрей, поздравляю Вас с юбилеем!». Юбилей-то у меня был аж в феврале, а Патриарх о моем 40-летии помнит еще спустя полгода — причем такие полгода, которые были отмечены серьезным недугом в его собственной жизни!
— Но Патриарх делает Вам какие-то замечания — после Ваших выступлений, скажем, в печати, острых высказываний, отличных от общепринятых в Церкви?
— Советы — давал. Замечаний — не делал. Наоборот, и в последующие годы были случаи, когда я помогал в составлении патриарших текстов или документов. А потом — что значит «общепринятых»? Парадокс моей жизни в том, что в большинстве спорных (спорных внутри самой Церкви) вопросов я поддерживаю и аргументирую официальную позицию. И именно за это мне достаются самые сильные тумаки со стороны церковных же сплетников. В советские годы в семинариях не разрешалось прямо критиковать марксистский атеизм. И помыслить нельзя было о том, чтобы дать критику работ Маркса или Ленина. Но умные преподаватели делали так: они брали брошюрку какого-нибудь урюпинского доцента Мышкина и критиковали его: «С точки зрения доцента Мышкина, религия есть опиум народа… Мы же в ответ на это скажем…». Вот так же поступают и мои сегодняшние критики. Вместо того, чтобы вступить в полемику с Патриархом, смело нападают на меня. Да, а парадокс состоит в том, что сама церковная власть не просит меня вступаться за нее. Просто наше в!идение многих проблем совпадает .
— Вас называют вечным дьяконом...
— Да ни одного дьякона не бывает вечного. Все мы помираем когда-нибудь.
— И все же почему Вы не пошли вверх по иерархической лестнице, ну, скажем, до протодиакона или иерея?
— Нет, ну «прото-» — это уж совсем от меня не зависит. Впрочем, я мечтаю об одном отличии. Знаете, высшей наградой епископа является «право ношения двух панагий»; высшим отличием священника является «право ношения двух крестов»... Так вот я мечтаю о том, чтобы меня наградили «правом каждения двумя кадилами»! Представляете, как красиво это смотрелось бы: выходит диакон на амвон, в каждой руке по дымящемуся кадилу, и он машет ими, как китаец нунчаками! Просто супердиакон!
— Но почему Вы не стали священником?
— Я ведь никогда свою жизнь особо не планировал. Мне дороги слова Экзюпери о том, что призвание найдешь просто: по тому, что не ты его выбираешь. Я только один выбор в жизни и сделал — крестился. Все остальное не столько избиралось и находилось мной, сколько входило в мою жизнь, вторгалось. Иногда — как внешние обстоятельства, иногда — как ощущение, через которое нельзя переступить.
И даже со священством так было. Заканчивал Академию, надо бы принимать священство… Сейчас-то это желание кажется безумным: знаете, принятие сана, как и женитьба,— это такие безумства, которые можно совершать только в молодом возрасте, пока не сознаёшь всей меры ответственности за свои поступки. Но окончить Академию и остаться «пиджачником»… В этом мне чудилось какое-то предательство, какая-то искусственная недовершенность.
Итак, я написал прошение о рукоположении во священника. И благословение патриарха Пимена и старца Кирилла уже было. Предполагалось, что в одно воскресенье рукоположат во диакона, в следующее — во священника. И уже все было назначено, и вдруг после диаконского посвящения у меня появилось ощущение, что надо остановиться. Я не понимал зачем, не мог найти разумных объяснений этому чувству, но оно было слишком очевидно. В итоге я просто убежал от своей хиротонии во священника, точнее — не поехал в Сучаву — тот город, где она и должна была совершиться. Теперь я уже знаю причину того торможения: священник Кураев не смог бы делать то, что делает диакон Кураев.
Чем диаконское служение хорошо? Я — в церкви, в алтаре, участвую в службе, в Таинстве, питаюсь им. Для меня очень важно и радостно то, что я могу сослужить при литургии, принимать максимально близкое участие в Таинстве... Кроме того, мне легче строить отношения со священниками, потому что я состою в одном сословии с ними. И со светскими людьми обращаться легче: видят же, что я в рясе… А с другой стороны, я — не священник.
Понимаете, я уже давно сделал сознательный выбор: пусть лучше некоторые церковные люди соблазнятся лично обо мне, нежели люди нецерковные соблазнятся о Православии. Мне порой удается достучаться до тех душ, до которых не доходят проповеди, выдержанные в традициях храмовой гомилетики. Но именно потому, что форма моих проповедей непривычна,— я предпочитаю оставаться в диаконском чине.
Это означает, что у меня больше права на ошибку. Больше свободы в выборе тех или иных образов, аргументов, в стиле поведения. Диакона труднее отождествить с Церковью, нежели священника. Мой диаконский сан позволяет людям безопасно со мной общаться: я не набиваюсь им в духовные руководители и моими советами запросто можно пренебречь.
А главное — люди заведомо не могут ко мне прилипнуть. Серьезнейшее искушение миссионера связано с отношением к нему других людей. Ведь миссионер встречает не только ненависть и сопротивление. Его проповедь будет знать и успехи. Понятно, что человек, который узнал о Христе и пришел в Церковь через усилия миссионера, перенесет на своего первого знакомого христианина ту радость и даже неофитский восторг, с которым он будет поначалу воспринимать все, освященное ореолом Церкви. Людям свойственно влюбляться в ярких проповедников; мудрость проповедуемого им Евангелия они отождествляют с человеческой мудростью самого проповедника; духовность повествуемых им святоотеческих опытов они отождествляют с жизнью самого рассказчика…
И тут миссионер должен научиться быть прозрачным, научиться не воспринимать всерьез похвалы себе. Миссионер должен очень жестко, очень внятно пояснять людям, что они не должны отождествлять его и ту Церковь, в которую он их ведет. Миссионер — дверь в Церковь, церковный порожек, но не вся Церковь. На пороге нельзя застревать; дверной проем не надо принимать за жилое помещение. И чем по-человечески талантливее и ярче миссионер, тем более велика опасность того, что своей человеческой яркостью он в сознании своих учеников затмит духовный свет Православия. Для миссионера велика опасность того, что он людей приведет к себе, а не к Церкви. Особенности его речи, жестикуляции, аргументации будут казаться им единственно и подлинно христианскими. Недавний пример отца Александра Меня свидетельствует нам об этом искушении, перед которым не устояли многие из его учеников. Многие люди шли к нему как к личности, а не через него — к полноте и разнообразию церковной жизни… Чтобы избежать такого отождествления себя с Церковью, миссионер должен постоянно подчеркивать: я — это не Церковь; Церковь богаче, чем я, духовнее, чем я, разнообразнее, чем я.
Вот для того, чтобы такого ненужного отождествления не происходило, я предпочитаю быть диаконом, носителем самого малого церковного сана, заведомо несамостоятельного…
То, что я не священник, ясно показывает людям, что я не претендую на роль их духовного руководителя и отца. Послушали меня, поняли, что в Православии можно жить,— так ступайте, входите, ищите себе духовного наставника. И чем больше он будет непохож на меня — тем лучше: вы поймете, что мир Православия разнообразен. Если мое слово кого-то убедило, подвело к вере, то человек заранее знает, что дальше-то я его вести не смогу. Я не буду его наставником, учителем жизни. Диаконский сан гарантирует, что вокруг не создастся секта «кураевцев». Нет никаких учеников, последователей, духовных чад. В этом смысле я — человек свободный.
А раз не может быть секты кураевцев – то и у моих моих церковных критиков нет повода говорить, будто я создаю какую-то свою «псевдоцерковь». Я привожу людей не к себе, а в обычные храмы. И вполне сознательно я допускаю «неканонические» выражения — чтобы неофиты, склонные отождествлять Православие с первым встретившимся и полюбившимся им проповедником, не воспринимали меня слишком всерьез и, пройдя через меня, мимо меня и дальше меня, вошли-таки в Церковь.
Кроме того, будь я священником, имей свой приход, я не мог бы ездить по стране. Священник отвечает за тех людей, которые уже ходят к нему в храм,— и дай Бог, чтобы у него хватило сил на своих прихожан. Я не смог бы бросить сотни судеб, вверившихся мне, и куда-нибудь в Магадан на неделю умчаться. А сейчас я могу вести образ жизни перекати-поля.
И, наконец, у меня есть право отказывать людям. Часто подходят, даже на улице — с просьбой освятить квартиру, поисповедовать или посоветовать что-то. Сейчас я говорю: «Это не ко мне, а к священнику, к духовнику». Став же сам иереем, я лишусь этого права на отказ. А это — время, которого мне и так катастрофически не хватает.
Как-то еду в метро. Полупустой вагон, но все сидячие места заняты. Стою, книжку читаю. Вдруг нависает надо мной матерый и, мягко говоря, не вполне трезвый человечище с бритым затылком… Златая цепь на дубе том… И громко, на весь вагон, спрашивает: «Батюшка, что мне делать? Я семь человек зарезал». Смотрю — скамеечка опустела, можно присесть и по душам поговорить.
— Хорошее место для исповеди он выбрал. Что же Вы ему посоветовали?
— Послал его.
— Куда?
— В храм, естественно.
— Чтобы на улице к Вам нe приставали, х!одите в светской одежде?
— Несколько раз пробовал. Казалось, меня могли бы принять за вольного художника или хиппи. Но все равно распознают и обращаются — «батюшка».
— К Вам подходят за автографами?
— Бывает. И я предпочитаю не терять времени на объяснения того, что раздаяние автографов малополезно для моей души и потому мне малоприятно. Если человека это радует, то эту радость я лучше ему подарю, а со своим тщеславием буду разбираться потом. Это уже «задание на дом».
— Но если к Вам постоянно обращаются с просьбами об автографах и интервью, то, имея столько поводов ко тщеславию, как Вы боретесь с этой страстью?
— Для начала нужно сказать, что все-таки я, увы, тщеславлюсь. Во всяком случае — радуюсь, когда вижу, что моей работой люди интересуются. Впрочем, такое же авторское чувство было у святителя Феофана Затворника: «Беретесь прочитать мои книжки. Мне всегда приятно слышать, что кто-либо читает мои книги. Думаю, почитает, и если найдет что, то поклончик положит о помиловании меня, многогрешного» .
А для того, чтобы это не принимало каких-то крайних форм... знаете, грех мой предо мною есть выну . Вспоминаешь некоторые свои собственные безобразия... Это ведь несерьезно: роль лектора, преподавателя, раздавателя автографов... Есть другое: литургия. Есть диакон, совершенно искренне называющий себя недостойным в минуту Причастия.
— Есть у Вас смена?
— Для того чтобы идти моим путем, слишком много необычностей должно было сойтись. Главная из них: моя церковная карьера шла сверху вниз. Я ведь свою работу в Церкви начал с самой высшей точки. Еще не окончив Академию, я уже в 27 лет был пресс-секретарем и референтом Патриарха. Затем был деканом богословского факультета, затем — заведующим кафедрой, теперь — просто профессор. Хорошо бы окончить жизнь диаконом в сельском приходе…
— Простите, что перебиваю. Но, говоря о сельском приходе, Вы не позируете?
— Ну, какая тут поза! Это просто скучный и рациональный расчет. Любой писатель желает в конце жизни получить покой, чтобы «исписаться». Писать лучше всего в тишине, видя вокруг себя Родину, а не бетонное «определенное место жительства». Но чтобы спокойно жить, писать и служить в селе, нужно очень много денег. Для этого нужен какой-то постоянный источник дохода (каковым сегодня не могут быть гонорары за книги). Самое надежное — это сдавать московскую квартиру. Но для этого ее нужно сначала купить. Да и «домик в деревне» — если это в пределах досягаемости до Москвы и с интернетом — стоит ой как недешево. Так что идея трезвая, хорошая, но дорогая. Где на нее взять денег — не знаю. Но уж если я себе разрешаю о чем-то помечать — так именно об этом бегстве из Москвы, а не о протоиерейском кресте или солидной чиновничьей синекуре.
Так, возвращаясь к моей карьере. Это ее странное направление — сверху вниз — означает, во-первых, что, оказавшись «наверху», я (надеюсь) не успел внутренне мутировать, стать человеком «системы», который долго и переживательно ждет продвижения вверх и с соответствующим расчетом и осторожностью выстраивает свои слова и поступки .
Во-вторых, то, что я начал сразу с верхней ступеньки, сделало мое имя сразу известным всему епископату. То, что с самого начала я был рядом с Патриархом, помогло заручиться церковно-иерархической поддержкой при начале моей миссионерской работы. У архиереев не возникал вопрос: наш человек или не наш. Мне не нужно было доказывать, что я могу защищать нашу веру: раз Патриарх в Москве тебе доверил такое послушание — что ж, приезжай и к нам и работай.
В-третьих, и Патриарх с самого начала знал, в чем я вижу свое призвание. Понимаете, если обычный молодой священник начнет активно ездить с лекциями за пределы своего прихода и тем более за пределы своей епархии, епископ неизбежно спросит его: «У тебя что, на своем приходе дел мало?». У меня же было уникальное сочетание свободы и доверия. Я не был диссидентом. С самого начала я воспринимался (в том числе и самим собой) как «человек Патриарха».
Моя свобода, в частности, связана с тем, что я сам для себя определил область своей работы и ее методы (это я сейчас так могу сказать, оглядываясь назад: когда все только начиналось, никаких подобных планов у меня и в мыслях не было). Плюс к этому мой двойственный статус как светского журналиста и университетского преподавателя, а не только как церковного служителя…
В общем, все это было легко в начале 90-х: когда все бурлило и создавалось. Кстати, для меня это очень важно: в Церкви я никогда не приходил на чье-то место, а значит, и мои должности не вызывали чьей-то зависти. Так что обходилось без «подсидок». Просто каждый раз совпадали моя готовность к перемене места и потребность в каком-то новом служении. В 1985 году впервые ректор МДА создал при входе в свой кабинет «предбанник» и решил посадить в нем референта. В 1990 году впервые Патриарх решил создать должность пресс-секретаря. Прошло еще время — и впервые был создан богословский факультет в рамках впервые же создаваемого православного университета, и этому факультету, конечно, был нужен декан. Во всех этих случаях мне никого не приходилось заменять и тем самым — «обижать».
А новым миссионерам приходится прокладывать себе дорогу снизу. Им — тяжелее.
Я сейчас пробую поставить себя на место молодого человека, который хочет начать церковное миссионерское служение. Его рукоположили после семинарии, он пробует что-то делать вне храма, а едва ли не все его сослуживцы смотрят на него, как на белую ворону: «Тебе что, больше всех надо? Протестант какой-то! Ты что, не знаешь, что кого надо Господь Сам приведет?».
При таких настроениях начинающий проповедник будет постоянно генерировать вокруг себя поле осуждения. Если он выйдет за пределы своего прихода, в конце концов ему скажут: «Значит, у тебя на приходе дел мало?». Кроме того, чем больше времени он будет проводить с детьми или молодежью, тем меньше денег он заработает требами в храме. Ведь пока он вел урок в школе, он мог бы машину освятить… И со временем голос жены начнет ему напоминать, что пора бы «жить как все»…
А затем журналисты какой-то каверзный вопрос зададут, а он ответит неудачно (или и в самом деле так ответит, или же журналисты переврут его ответ). И уже с верха следует грозный окрик: «Что ж ты такое ляпаешь! Сиди на приходе, юноша, и бабушек своих по праздникам поучай, а на радио не ходи!».
Нет, сегодня, мне кажется, молодому священнику тяжелее встать на путь миссионерства. И тем более я удивляюсь тому, как Господь вел меня по этому пути!
— Значит, Вы не всегда будете заниматься миссионерством, Вы хотите что-то изменить в Вашей жизни?
— Я не хочу, а знаю, что перемена будет. Может, еще года два так можно жить («так» — это значит: на колесах, читая в год лекции в 60 городах), а потом просто силы кончатся. Но не я буду принимать это решение, все произойдет само собой; и я надеюсь, что затем будет время для того, чтобы осесть в Москве, писать книги. А потом и уехать из Москвы… Но если что-то такое будет, то к этому Господь Сам приведет.
— И монашеский постриг возможен?
— Тоже не исключаю. Это будет камнем, который должен будет растревожить болотце моей жизни, если оно совсем уж затянется ряской «обвыкания» к святыне.
— А семья?
— Я один. Я изначально строил свою жизнь так, чтобы не иметь якорей.
— А Вы когда-нибудь любили женщину?
— Вы знаете, до некоторой степени это все-таки был не я, потому что это было в те старые доисторические годы, когда я даже еще крещен не был. А после крещения Господь, наверно, вел меня к тому образу жизни, в котором я и пребываю сейчас. А потому и не посылал больше влюбленности. Значит, и не нужно.
Вновь скажу: мое глубокое убеждение в том, что настоящее ты не выбираешь, оно само входит в твою жизнь. Так что даже когда мои однокурсники-семинаристы активно решали свои брачные вопросы (кто женихался, кто, наоборот, по братским монастырским молебнам бегал), я сказал: «Господи, да будет воля Твоя. Если Ты считаешь, что мой путь — это путь семейный, то пошли мне такую встречу с девушкой, чтобы я сразу понял: это — она. Если нет, то управь как-то иначе». Здесь не было долгих внутренних «разборок». Слишком еще остры были переживания от недавно обретенной веры.
— Почему Вы выбрали путь отказа от семьи, если это многого лишает человека?
— Я не думаю, что это отказ. Отказаться можно от того, что есть. Все же одно дело — выпустить то, что у тебя уже есть, а другое — просто не взять. Если я не протянул руку, чтобы какое-то сокровище взять,— вряд ли можно назвать это отказом.
Так же было и с выбором профессии. И тут не было внутренней борьбы. В те дни вроде бы выбора (это был 1985 год) я четко ощущал: для того, чтобы мне остаться в аспирантуре и продолжить светскую карьеру, мне пришлось бы поломать себя. А вот сломать весь внешний строй своей жизни и прийти в семинарию мне было внутренне легче.
— Отец Андрей, Вы как-то сказали, что батюшки не должны забывать о своих прежних мирских увлечениях. Вы свои прежние увлечения сохранили?
— Да, было бы хорошо, если бы священник мог воцерковлять и свою мирскую профессию, и свои прежние «хобби». Я знаю священников, которые были мастерами боевых искусств до принятия сана,— так они и сейчас преподают эти искусства мальчишкам, сопровождая их изложением христианской позиции.
У меня в детстве тоже было одно увлечение, к которому я потихоньку возвращаюсь. Я любил книжки по истории, но поступил потом на философский факультет, по сути — антиисторический. И вот в последние годы по капле выдавливаю из себя философа. Мне интересны подробности, детали, историческая сложность. А философскую легкость обобщений, когда по двум-трем фактам строится глобальная теория, приходится изживать
Помню, когда я сам был студентом, то первые книги по религиозной философии попадали мне в руки от научного сотрудника Института философии Альберта Васильевича Соболева. Его квартира была для меня островом сокровищ: там стояли дореволюционные издания и парижские книги, которые в советских библиотеках хранились за семью спецзамками. И вот, принося очередную прочитанную книгу и беря новую, я пробовал завязать с ним обсуждение прочитанного, но в ответ не встречал никакого энтузиазма. Сначала я это счел за обычную советскую осторожность. А потом он сам пояснил: «Знаете, мне это уже не очень интересно. Мир идей русской философии достаточно обозрим. Я его изучил уже давно. Эти философы мне гораздо более интересны как люди. Мне интересно, как они жили, как общались. Порой старая фотография мне интереснее нового издания книги Флоренского». Тогда я не понял его. Мне казалось, что вселенная русской религиозной философии неисчерпаема. А сейчас я чувствую что-то похожее. История для меня интереснее, чем философия и богословие.
— А как Вы отдыхаете? Как проводите свободное время? Может, у Вас есть какое-то хобби?
— Вот в этом смысле мой образ жизни совершенно ненормальный, потому что обычный москвич, когда у него наступает время отпуска, уезжает куда-нибудь из Москвы, стремится слиться с какой-нибудь компанией, а у меня все ровно наоборот. Вся моя жизнь — в поездках, поэтому для меня отдых — это если я могу дома один посидеть. Счастливое время, если я могу на два-три дня запереться дома и не выходить вообще никуда, даже в магазин. Поскольку отдых — это смена образа жизни и деятельности, то отдых для меня — когда я пишу. Потому что в поездках я только читаю (или напротив: читаю я только в поездках)… Увлечения? Да одно у меня увлечение — поспать.
— А Вас никогда не посещали сомнения, что Вы ошиблись в выборе жизненного пути?
— Я сам себе завидую.
— Значит, не считаете себя неудачником? Выходит, и без семьи, и без карьеры можно быть успешным?
— Ну как я могу считать себя неудачником, если у меня нет свободного времени? Я же вижу, что мой труд нужен людям.
Вообще православный священник — благополучный человек. Не в материальном смысле, а внутренне. Он понимает нужность своего служения, понимает, что люди поворачиваются к нему самой сокровенной стороной, видит, что помогает людям. Он знает, что то, чем он живет, очень важно. Но это внутреннее благополучие не должно расслаблять священника. Ему должно быть трудно. Когда ты себе не принадлежишь, когда ты все время должен делать то, что ожидают от тебя Господь и люди.
Вот, беседуя с Вами, я смотрю за окно. Я в прекрасном старом городе, у него прекрасные уютные улицы. Но я понимаю, что я на них так и не побываю, что у меня совершенно не будет времени, что давать Вам интервью мне приходится за счет крошечной паузы между лекциями, потому что еще нужно на минуту прилечь (у меня больная спина), а потом ехать за 360 километров, а уже потом, в гостинице, за компьютером, выправить очередное срочное интервью... Да, я счастлив.
— А что побудило Вас заняться церковной публицистикой и миссионерской деятельностью?
— Я никогда не думал, что стану миссионером. Есть странное противоречие между моим личным характером и характером моей жизни.
Я по характеру домосед — а тут приходится жить в дороге. По своему складу я интроверт, одиночка,— а постоянно приходится быть с людьми…
Нет, серьезно, я домосед. В годы учебы у меня был один путь: МГУ и храм. Я даже в другие храмы не ходил, в Петербург на каникулы не срывался… После крещения я долгое время никуда, кроме своего храма, не ходил. В Даниловский монастырь вошел года четыре спустя после его открытия, и то после того, как один батюшка, у которого в гостях был, сказал: «У меня дела в Даниловском монастыре, едем со мной». А так я знал только Троице-Сергиеву Лавру и свой храм, и больше ничего. В Патриарший собор попал впервые только когда нас, семинаристов-первоклассников, повезли туда. И даже сегодня для меня каждый выход из дома — маленькая душевная травма.
То, что я уже который год в дороге,— это ситуация, скорее навязанная мне, нежели избранная мною. И это влияние Патриарха, потому как он, сам будучи мобильным человеком, для которого путешествие — естественный образ жизни, приучил к тому и всех своих сотрудников. Как известно, сердечный приступ случился с ним не в московских покоях, а во время посещения Астрахани. Патриарх часто брал меня с собой в поездки, и это позволило мне преодолеть определенные страхи (я вообще сторонился контактов с советской властью — даже на уровне обращения к администратору гостиницы или к железнодорожному кассиру).
А потом, причастность к Церкви дала мне ощущение сословности. Я семинаристом очень остро ощутил, что в моей жизни что-то резко изменилось. Если я студент университета и куда-нибудь еду, я совершенно сам по себе и нигде, ни в каком городе никому не нужен. Но слова «я семинарист» — это слова чудесные. В любом городе, в любом селе, где есть храм, заходишь, говоришь «я семинарист», и тебе радуются. Это сейчас семинаристов много и много проходимцев и шарлатанов. А в советские времена семинарист — это была такая редкость… Ты видишь, как люди тебя принимают, и понимаешь, что ты должен это отработать потом, потому что мы ничего еще не сделали для Церкви, для людей, для Бога.
Вновь говорю: у меня не было решения: «Стану ездить с проповедями!». В Церкви есть такая поговорка: «За выбирачку — получай болячку!». То есть если ты начал метаться, срываться с места без крайней необходимости, искать новый храм или новую епархию просто «в поисках лучшего» — то в итоге Господь может «проучить» тебя. И ты окажешься в таких новых условиях, что с ностальгией будешь вспоминать о прежних, казавшихся «невыносимыми».
Я без своего желания, без всякой своей инициативы оказался у Патриарха, потом в православном университете, без особой какой-то своей инициативы начал заниматься публицистикой. Это казалось случайностями: вижу, что какая-нибудь чушь о Церкви говорится, берусь за перо, чтобы пояснить, в чем тут неправда. А затем, когда секты появились, уже об этом стал писать. И совсем уж неожиданна оказалась для меня идея знакомого церковного журналиста, когда он предложил собрать и издать книжкой мои статьи, разбросанные по разным изданиям. Это было в 1994 году, и книжка называлась «Все ли равно, как верить?». Я был настолько ошарашен, что даже вопрос о гонораре не стал обсуждать. Это, наверно, была первая книга о богословии, написанная языком журналиста. Отсюда и ее успех: 45 тысяч разошлись за полгода… А затем тот же издатель говорит: «Слушай, у нас еще бумага осталась, давай еще что-то твое издадим». Так появилась уже серьезная книга «Традиция, догмат, обряд», составленная на основе моих университетских лекций. Ну, а сделанное дважды уже становится привычкой.
— Как получилось, что у Вас — чуть ли не у единственного сегодня активного проповедника — столь романтическое отношение к христианству? Вы, кажется, готовы за Честертоном повторять: «Наша вера — авантюра, она похожа на детектив, где главная разгадка — в конце».
— А ведь правду сказал. Наша вера и в самом деле есть именно авантюра. Вот представьте (это реальный случай, рассказанный мне в Вильнюсе): сын-студент говорит матери:
— Ну какие у вас в Церкви чудеса? Нету сегодня никаких чудес!
А та отвечает:
— Ну как же, сыночек, нет чудес? А со мной вот только что — разве не чудо было? Картошку надо мне было убрать, потому что назавтра заморозки обещали. Копаю-копаю, гляжу — солнце уже на закат, а у меня едва треть выкопана. Тут я и взмолилась: «Господи, помоги убрать эту картошку, Ты же ведь знаешь: мне зиму без картошки не прожить!». И я снова — носом в грядки. И, представляешь, до темноты действительно все убрала. Разве это не чудо?
Вот эта способность обратиться к Богу по поводу картошки и есть величайшая авантюра. С точки зрения богоискателя-интеллигента это просто скандал: к Трансцендентному Абсолюту, Идее Идей, Высшему Благу — эта крестьянка обратилась по поводу какой-то обыденной картошки! Нет чтобы попросить Божество об утончении своего эстетического вкуса, о даровании терпимости, широты взглядов и политкорректности…
Да и во многих реальных религиях такое поведение тоже кажется неразумным: смирись, гордый человек, молись туземному духу, но не досаждай Небу. Представьте, что я оказал услугу Президенту. Он дал мне номер своего прямого мобильного телефона. Сказал: «Нужна будет помощь — звони!». Но я понимаю, что у меня есть право только на один звонок. Представляете, как я буду беречь эту палочку-выручалочку, от одного кризиса к другому все откладывая и откладывая свою единственную апелляцию «на самый верх». Конечно, я не буду звонить Президенту с жалобой на соседа, который опять залил мою квартиру. Вот и к Богу Творцу во многих языческих религиях разрешалось обращаться только в самом крайнем случае — не когда «крокодил не ловится, не растет кокос», а когда гибель угрожает всему народу… Христианин же может к Творцу миров обращаться по пустякам и по-семейному, запросто: Отче.
Вы знаете, как-то в одной украинской газете я прочел молитву «Отче наш» на украинском языке. Русское слово «отец» по-украински — «батька». Я сначала возмутился: «Надо же! Какая фамильярность, грубость!». Я до этого знал только одного «батьку» — Махно. А затем задумался и обрадовался. Это хорошо, что Владыку всех миров называют по-семейному: «батя».
Мне и самому случается иногда «капризничать» перед Небесным Отцом, молиться о сущей ерунде: прошлую неделю я провел в Румынии. И когда я уезжал туда, так мне хотелось, чтобы там было тепло! До того я устал от этой московской осенней слякоти! Снег уже лежал в Москве. Снег завалил Украину. Снег в Карпатах. Снег в румынской Молдове. В общем, двое суток заснеженного пути почти убили мою надежду. Но на подъезде к Бухаресту вдруг стало удивительно тепло. И всю неделю температура была плюс 20 — это в середине-то ноября! Правда, из-за этого внезапного потепления небольшое наводнение случилось в Центральной Европе, но это уж их проблемы… Об этом я не молился.
Если же говорить серьезно, таких авантюрных, и в то же время повседневных чудес полна наша жизнь. А как я пришел к вере, вдобавок понимаемой как авантюра… Честно говоря, я и не знаю, что Вам ответить. Надо что-то придумывать, а не хочется. Скажу как есть: я не стал взрослеть.
— Как Питер Пэн?
— Не совсем: прежде всего я не стал взрослеть в церковном смысле. В иерархическом, что ли. Диакон — это не священник. Людям безопасно со мной общаться: я не набиваюсь им в духовные руководители и моими советами запросто можно пренебречь.
— Как в Вашем храме относятся к Вашим частым отлучкам?
— Настоятель терпит, слава Богу! В отчеты мои поездки, как «миссионерская деятельность», конечно, включаются. С самого начала моей «приписки» к этому храму Патриарх сказал настоятелю, что служить я буду «в свободное от богословских занятий время».
Когда Патриарх предложил мне на выбор — в каком храме Москвы я пожелал бы служить, я назвал храм Иоанна Предтечи на Красной Пресне. И заметил, что у Святейшего некая тень пробежала по лицу. Потом я начал в Патриархии наводить справки, и оказалось, что этот храм считался там своего рода «штрафбатом»: в советские времена в него назначали священников, которые были не на лучшем счету в Патриархии. К нему от метро надо подниматься в горку (и редкая бабушка осилит этот путь), зато рядом есть другой действующий храм — на Ваганьковском кладбище. Так что наш храм по московским меркам считался одним из беднейших. А тут я сам попросился в «штрафбат»... Но для меня тут не было выбора: этот храм был моим родным.
И потом наш храм — не идеологический, без претензий. Батюшки не одержимы идеями авторского истолкования Православия. У нас — нормальные служаки. И люди к нам ходят просто молиться, Кстати, в своем храме я не проповедую. Потому что хочу иметь в жизни местечко, где я не профессор Кураев, а самый обычный диакон. Где бы я мог помолчать и помолиться. Ведь в других местах говорить приходится слишком много.
— Как обычно складывается Ваш рабочий день?
— У меня нет понятия рабочего дня, есть, скорее, понятие рабочей недели. Вот уже лет семь каждое воскресенье я улетаю в какой-нибудь регион. В год не менее 50 городов. Всего за последние шесть лет побывал в 250 городах мира… Там три-четыре встречи-лекции в день. Обычно в пятницу возвращаюсь в Москву и — лекции в МГУ, в богословском институте. Субботнее утро — для общения с журналистами, для домашних дел, писательства. Вечером — всенощное бдение в храме Иоанна Предтечи на Красной Пресне, утром — литургия, и снова — самолет.
— Вы — человек раскрученный. Мелькаете постоянно на экране, в прессе. Вас коллеги не ревнуют? Ведь всякие закрытые сообщества — военные, чиновники — не любят выскочек из своих рядов. А клир?
— Духовенство — очень необычное сообщество. Оно не может быть «закрытым», потому что в него приходят люди из самых разных слоев общества и с очень разными судьбами. В Москве каждый десятый священник — выпускник МГУ. Хотя бы поэтому в этой среде не может быть аллергии ко мне.
— Бывает, когда много работаешь — ложишься спать, а перед глазами работа. И начинаешь вспоминать: тому должен, то не сделал, с тем встретиться, это выполнить… Невозможно сосредоточиться даже на самой простой молитве. Есть ли у Вас способы с этим справляться?
— Ну, перечисление своих долгов на сон грядущий я себе давно запретил — это верный путь к бессоннице и язве. Здесь надо просто говорить «стоп» — и все. Я не стану думать, о чем мне не хочется. Что касается молитвы — то она и в работе помогает. Я верующий книжник. Книжник — но верующий. Это значит, что когда я беру книжку, я вхожу в личный контакт с автором. Если это человек святой, я молюсь ему: «Святителю отче Григорие Богослове, моли Бога о нас». Если это человек, не канонизированный Церковью,— я молюсь: «Упокой, Господи, душу раба твоего болярина Александра» (это о Пушкине). Если автор жив — то тем более можно помолиться о его здравии и (если нужно) о вразумлении. У христианина повод для молитвы всегда найдется.
— Ваши многочисленные поездки Вас скорее вдохновляют — или, наоборот, отнимают силы?
— Они изматывают, конечно. Но я к ним отношусь как к обычной работе. Легкую работу искать было бы странно. Кроме того, «вдохновений» и «просветлений» я не ищу. А то так недолго и до психушки… Помните этот дивный афоризм: «Если человек беседует с Богом, то это молитва, а если Бог беседует с человеком, то это шизофрения»?
Вообще же я не ставлю себе глобальных задач. Уже давно я дал себе зарок: в своей жизни я никогда не буду заниматься двумя вещами — я не буду спасать Россию и не буду спасать Православие . Мне ближе этика малых дел: оказание частной помощи частным людям.
— Что-то Вы скромничаете, по-моему. Почему это Вам не хочется спасти Россию и Православие?
— Потому что слишком часто на моих глазах люди с ума сходили от самомнения и постановки себе чересчур масштабных задач. Если же и во мне вдруг шевельнется подобная мессианская мыслишка — я ее осаживаю простым вопросом: «Андрей, а кто тебя назначил дежурным по апрелю?».
Так что вновь скажу: я именно работаю. Слова типа «служение» и «подвиг» выношу за скобки своей жизни — чтобы не «звездило». Поэтому и беру гонорары за свои лекции и книги. Знаете, в Церкви иногда говорят: «Бесплатно — это там, где бес платит». В смысле — одаривает «кайфом» от сознания собственной праведности.
— При таком объеме миссионерской и проповеднической деятельности, который Вы ведете,— в том числе и на рок-концертах,— трудно ли возвращаться к уединению, молитве, частной жизни христианина, который стоит перед Богом?
— Да, даже и не в духовной жизни, а в чисто практической — трудно возвращаться в Москву. В самом буквальном смысле. Когда я еду в какой-то город — меня там чуть не на руках носят, встречают… Когда я возвращаюсь в Москву — я тут никому не нужен. Самому надо тащить сумку к автобусу, затем часа два самому тащиться от аэропорта до дома…
— С какой аудиторией Вам интереснее всего вести диалог?
— С той, которая со мной не согласна. Моя аудитория — это люди, которым интересна мысль, сложность. Люди, которые боятся простых ответов и пропаганды. Люди, которые радуются, узнавая, что какие-то проблемы сложнее, чем им казалось раньше.
— И сколь часто Вам доводится встречаться с такими аудиториями?
— Аудитория моего первого выступления в городе всегда не моя. Это подтверждается почти во всех епархиях, где я побывал. Это большая для меня проблема, так как мои книги, записи выступлений распространяются лишь по церковным каналам и не доходят до тех, кому они адресованы,— прежде всего до людей не церковных. Почти везде, куда я приезжаю, объявления висят лишь в храмах. Поэтому на лекции приходят прихожаночки, «профессионально православные», в надежде на то, что им расскажут о чудесах и блаженно-юродивых старцах… Бабушки вскоре понимают, что ошиблись, и спокойно дремлют до того времени, когда можно задать свои вопросы. На следующую лекцию они уже, как правило, не приходят. Но несколько десятков людей из университетского мира, которые все же оказались на лекции, после нее задают нагрузку местным телефонным сетям. По городу начинается телефонный перезвон (сенсация: «нескучное Православие!»). На следующий вечер численность слушателей та же, но уже качественно меняется их состав. Теперь уже стали собираться люди светские, для которых это первая возможность серьезного диалога с Церковью на их языке. И на третий вечер собирается уже моя аудитория — люди, которые боятся простых ответов.
И еще один признак «моей» аудитории — это присутствие моих ровесников, «средовеков». Проблема состоит в том, что в наших приходах есть только две возрастные группы: это молодежь и пожилые люди. Мне печально, что в храмах не видно людей среднего возраста: от тридцати до пятидесяти лет, и особенно мужчин. Почему мужчины этого возраста в наших храмах практически отсутствуют? Возможно, потому, что это люди, чье мировоззрение сложилось еще в советские годы. А для мужчины, в отличие от женщины, гораздо труднее ломать свое мировоззрение: мужчина более эгоцентричен, он выше ценит себя, свой жизненный опыт.
В старости человек чувствует приближение страданий, смерти, и понятно, почему он становится более религиозным. А возраст 30–50 лет, возраст карьерного пика,— это время чрезмерно завышенной самооценки, и этот возраст становится малопроницаем для православной проповеди покаяния. Поэтому я очень радуюсь, когда вижу, что на моих лекциях появляется много людей именно этого возраста. И если раньше я считал, что буду обращаться прежде всего к молодежи, то в последнее время я полагаю, что, может быть, один из главных адресатов моих книг и лекций — это люди среднего возраста.
— А неприятных открытий в жизни у Вас не было?
— Одно из крупных разочарований моей жизни связано все с тем же моим миссионерством. Я с некоторой горечью должен признаться, что наибольшую отдачу мои книги и лекции дают, увы, не в том направлении, на которое я рассчитывал. Я ни в коем случае не могу считать себя учителем Церкви. Учить духовной жизни, молитве и покаянию, как я считаю,— не в пределах моей компетенции: ни человеческой, ни диаконской.
Мне бы хотелось быть действительно миссионером, приводить к Богу людей из страны далече .
И все же по откликам и беседам с сотнями людей, по письмам, которые я получаю, оказывается, что для многих людей мои лекции выполняют другую задачу.
Оказывается, что для многих мои лекции и книги являются скорее неким удерживающим фактором, то есть они, скорее, не приводят в Церковь, а помогают остаться в ней. Те, кто приходят,— приходят сами. Но затем проходит пора первых восторгов и начинается горечь — сомнения, трудности, разочарования. Особенно они тяжелы, если не сложились отношения со священником. Если в эту пору к нему попадают мои книги, то удается такому человеку показать, что Православие может быть иным. Книги показывают ему, что мир Церкви — разнообразен. И поэтому в нем можно жить. Пространство Церкви — пространство людей, а не пыльное книгохранилище.
Порой даже приходится говорить: «То, что тебе было выдано за Православие или показалось им, на самом деле таковым не является».
— То есть та аудитория, с которой Вы работаете, это большей частью уже церковные люди?
— Ну, это, скажем, к моей печали… Мне бы хотелось, чтобы в ней было больше людей нецерковных. Но, к сожалению, в последние лет пять я наблюдаю обратную тенденцию. Если раньше было примерно поровну, то сейчас на моих лекциях светских людей процентов, может быть, двадцать.
— Может быть, проблема в том, что светские люди о Вас просто не знают?
— Да, я это вижу очень четко. Потому что иногда, бывает, приезжаешь в небольшой городок — полный зал на тысячу мест. А бывает большой, миллионный город, а зал полупустой… Очевидно, это связано с какими-то неудачами в подготовке моего приезда, в оповещении.
— Нормально ли для церковного проповедника прибегать к рекламе в средствах массовой информации?
— Оповещать через СМИ — это нормально. Хотя здесь действительно есть проблема, потому что рекламный характер современной культуры противоречит основам православной этики. И поэтому мы проигрываем сектам. Приезжает, скажем, какой-нибудь захудалый проповедник из Калифорнии, а о нем по всему городу висят афиши: «Выдающийся Мыслитель: Тот, Кто ответит на все вопросы!». Я же не могу так говорить. Это неуместно для православного человека — так говорить. Будь я баптистом, подо мной был бы какой-нибудь специальный фонд, который занимался бы и раскруткой, и организацией всего, и было бы планирование встреч, поездок, жизни в Москве и по стране… У меня этого нет.
— С точки зрения Церкви Вы можете оправдать такую ситуацию?
— Оправдание только одно: Промысл Божий таков.
— Для меня, как для стороннего наблюдателя, Вы едва ли не единственный заметный православный миссионер. Существует ли в нашей Церкви системный подход к делу миссии?
— Я не знаю. Я не являюсь сотрудником Миссионерского отдела или Отдела по работе с молодежью. Я не знаю, что там делается. Парадокс моей ситуации в том, что за моей спиной ничего нет. Приезжаю я на Украину, и там националистические газеты пишут, что приехал «агент Москвы». Но, к сожалению, я не агент Москвы. Москва меня никуда не посылала. Если я приезжаю, значит, есть местный интерес, здесь люди зовут.
— В Украине говорят: «У нас, к сожалению, нет своего Кураева».
— Видите ли, Церковь выступает против клонирования.
— Отец Андрей, Вы были одним из первых священнослужителей, кто после 1991 года вошел в стены Московского университета и стал читать лекции о запрещенном, о духовном. Какова была реакция Ваших слушателей?
— На самом деле, в МГУ первым был отец Артемий Владимиров, в 1990 году. Сначала это были разовые встречи, переполненные залы. Читал несколько раз отец Артемий, потом я.
Может быть, я был первым, кто вообще из Церкви пришел в советский университет, но это было не в МГУ — а в уже упомянутой Коломне.
— А как складываются Ваши отношения с МГУ?
— Я начал первый систематический курс на факультете журналистики — в 1991 году, осенью. Приношу искренние соболезнования студентам, которые пали жертвами моего эксперимента.
Меня подвела весьма распространенная иллюзия. Каждый уважающий себя старшекурсник и аспирант, естественно, считает, что он по своей специальности знает уже все.
И я, когда начал читать лекции в МГУ, тоже считал, что знаю достаточно много: университет, аспирантура, семинария, Академия, Богословский институт... Но критерии, с которыми студент подходит к знанию предмета, совершенно иные, чем у преподавателя. Когда я как студент сдаю экзамен, то мне важно просто найти в своей памяти материала на 10–15 минут разговора на тему билета. Это даже много… Студент, как правило, читает материал, лишь когда просматривает вопросы к экзамену. И если при виде вопроса у него в голове возникают две-три мысли, то он считает: «Ну, это я уже знаю, а остальное нафантазирую — поехали дальше». Вот с таким багажом оканчиваешь университет, потом семинарию и Академию, где очень похожая ситуация в смысле интенсивности учебы. И самоуверенно считаешь себя человеком более-менее образованным.
А лекция-то идет полтора часа. И чтобы она была серьезной и интересной, преподаватель должен изложить не более трети того, что он на эту тему может сказать. Тогда есть какой-то запас прочности, появляется творческое отношение к лекции, можно менять, адаптировать ее каждый раз.
Когда же я начал читать лекции в университете, я вдруг с ужасом обнаружил, что всех моих знаний хватило ровно на три лекции. То есть двенадцати лет послешкольной учебы — в университете, в аспирантуре, затем в семинарии, в Академии, в Богословском институте в Бухаресте — всего этого мне хватило ровно на три лекции. После этого я понял: все, больше я ничего не знаю.
Я, конечно, пришел в ужас от своего невежества. Но как раз в ту пору у меня была своеобразная ситуация в жизни, было много свободного времени, так что я мог позволить себе по нескольку дней готовиться к одной-единственной лекции. Я заставил себя, по сути, учиться ради моих студентов, читать те книжки, которые давным-давно надо было прочитать, которые входят в классическую библиотеку истории богословия, философии. Пришлось все это всерьез перечитывать — уже не глазами студента, который хочет сдать зачет. Систематизировать. Поэтому первый курс лекций, первые два семестра — это был тихий кошмар. Насколько я понимаю, студенты были такого же мнения.
— А сейчас какие-то новые проблемы в связи с Вашими лекциями в МГУ появились?
— Наверное, да. Поскольку я возвращаюсь в МГУ к каждой лекции из миссионерских поездок, бывает трудно переключиться с режима популярной лекции на лекцию академическую. Но главное — это появившаяся стабильность. Знаете, ведь уже больше 10 лет это неизменно: каждую пятницу в половине четвертого в первой поточной аудитории первого гуманитарного корпуса идет моя лекция. Так что в некотором смысле я уже стал частью университетского интерьера.
— Как Вам удается держать аудиторию в таком напряжении на протяжении довольно продолжительного времени и у слушателей остается желание еще слушать и слушать? В чем секрет?
— Просто прежде чем начать читать лекции, я попробовал осознать, какие лекции я сам люблю, какие я слышал хорошие лекции в университете, в семинарии, в Академии. И вот оказывается, что практически у всех преподавателей, которые и мне дороги и интересны, и студенты их любят, помимо знаний, речи, есть один интересный подход к изложению материала. Они отталкиваются от некоторых стереотипов: «Вот вы думаете, что здесь дело обстояло так, а на самом деле все гораздо интереснее, своеобразнее, по-своему противоречивее, а может быть, вообще совершенно не так». И я с самого начала выстраивал свои лекции тоже по этому принципу. То есть я исхожу из тех шаблонных представлений, которые могут быть в сознании моих слушателей, и предлагаю иное, более глубокое прочтение, понимание, нюансы и детали. И это создает ощущение, что лектор ведет диалог не только со слушателем, но и с самим собой.
В МГУ мне поручили преподавать на условиях весьма своеобразных: мои лекции ни для кого не обязательны, а кому интересно — пожалуйста, приходите. И вот, мне нужно, чтобы студенты не просто зашли ко мне на один-два раза, заинтересовавшись рясой, а чтобы они весь год после всех своих лекций, натощак, без обеда еще два часа сидели и меня слушали. Добиться этого можно было, только если соответствовать МГУшным стандартам интересных лекций.
И еще я должен признаться в том, что к преподавательской работе я ведь профессионально не подготовлен. Я не прочитал ни одной книги по искусству риторики и по гомилетике (искусству церковной проповеди). Я не беру в руки книг по психологии. Не читал даже Карнеги, не говоря уже о всевозможных оккультных техниках типа нейролингвистического программирования. Я сознательно не прикасаюсь к этому миру — потому что считаю, что людьми нельзя манипулировать. Я просто стараюсь думать вместе с аудиторией, быть с ней в диалоге.
Оттого с тем большим изумлением и смехом я встретил «проницательное» наблюдение рериховских лазутчиков, побывавших на моих лекциях: «Кто не мог угнаться за полетом мысли проповедника, мог наблюдать за стилем работы диакона. Поражало его умение владеть аудиторией. Как преодолеть естественные психологические барьеры на пути к душам разнородной аудитории? Можно пойти по пути уважительного, доброжелательного отношения к людям и надеяться, что сердца людей откроются для восприятия. Но такой подход неприемлем изначально. Какое уважение может вызвать болото? Тут нужна специальная техника. Аудитории задается риторический вопрос, выдерживается небольшая пауза, во время которой люди успевают подумать: “Конечно же”. Сам же “мастер” дает противоположный ответ: “Нет!”. В зале наступает гробовая тишина, которая свидетельствует о попадании в самое яблочко — люди оказываются в замешательстве, в шоке, защитные свойства психики парализованы, “фильтр” снят, дорога к сознанию открыта. Теперь можно говорить все что угодно — парализованное сознание должно принимать все за чистую монету. В уме возникают не менее шокирующие вопросы: “Что же это такое — лекция православного проповедника или сеанс массового гипноза с применением техник нейролингвистического программирования сознания? Где можно оказаться после такой лекции — в стаде Христовом или в психиатрическом заведении? Разве использование таких методов не является насилием над личностью?”. Другой пример. Задаются заранее подготовленные вопросы, на которые никто не знает ответа. Для эрудита и знатока традиций это не сложно. Затянувшееся молчание или неудачные ответы комментируются безобидным “эх, вы”, и механизм заниженной самооценки приведен в действие. Безмолвную реакцию зала нетрудно просчитать: “Какие мы все-таки непроходимые неучи и тупицы”. Прямым оскорблением и унижением это не назовешь. Так по-иезуитски изощренно люди подводятся к самоумалению, потере элементарного человеческого достоинства, так ловко загоняются в раболепно-послушное стадо» .
Надеюсь, мои студенты прочитают эту «экспертизу».
— Почему надеетесь?
— Так ведь тогда мне не нужно будет уже им доказывать, что рериховские проповедники неумны и нечестны. Понимаете, о моих слушателях можно, наверно, сказать многое (тем более что они очень разные), но вот одного точно сказать нельзя — что они «раболепно-послушное стадо».
— То есть Вы всегда ставите себя на место тех, кому читаете лекцию?
— Да. В некотором смысле я даже и книжки читаю их глазами. То есть когда я читаю книгу, то я отмечаю не только то, что мне интересно, а я отмечаю и стараюсь запомнить то, что, пожалуй, стоило бы сказать человеку вот такого склада: вот этот факт интересен для разговора на эту тему, вот этот аргумент стоит помнить ради такого спора и так далее. И лишь когда ты понимаешь, что каждая информация функционально необходима, легче запоминаешь.
— Помогает ли Вам в миссионерской деятельности атеистическое образование?
— Конечно, помогает. Оно дало мне возможность посмотреть на Церковь со стороны. Сейчас я стараюсь в своих беседах смотреть на проблему глазами человека, не согласного со мной, чтобы понять его. Так мне легче строить диалог с людьми. Миссионер должен быть немного шизофреником: он должен говорить и при этом тут же слушать себя, причем не своими ушами, а ушами своего собеседника и оппонента — как с его позиции будет воспринято то, что я сейчас скажу. Если этой «шизофреничности» нет, то получится монолог по принципу «тихо сам с собою я веду беседу».
— А как стал возможен подобный стиль общения со светской аудиторией? Были ли у Вас проблемы в начале Вашей деятельности? Высокий уровень был всегда или это начиналось несколько по-другому?
— Со стилем общения проблем не было, потому что еще в университете мне приходилось постоянно защищать веру перед лицом своих однокурсников, своих знакомых, друзей. И появился навык апологетики и разговора на языке, понятном студенчеству, ученым. Потом, учась в семинарии, я много водил экскурсий по ЦАКу (академическому музею); в основном это были люди нецерковные, впервые встретившиеся с Церковью.
— А Вас не смущает тот факт, что Вы сейчас преподаете от кафедры, которая до недавнего времени называлась кафедрой религии и атеизма?
— По-моему, мы сейчас взаимно гордимся этим: кафедра гордится тем, что воспитала меня; я горжусь тем, что в моей биографии был такой экзотический факт.
— А где Вам интереснее преподавать — в богословским институте или в МГУ?
— Сложнее и интереснее в МГУ. Во-первых, я все же прежде всего миссионер. Поэтому обращаться к уже верующей аудитории мне менее интересно. Во-вторых, работа в МГУ учит отвечать за свои слова (и даже брать их назад). Ведь на моей лекции сидят студенты, аспиранты, а порой и преподаватели с самых разных факультетов. И, значит, я должен быть крайне осторожен. Потому что, если я ненароком забреду за краешек моей компетентности, то тут же найдутся в зале люди, более меня знающие физику, биологию, историю, филологию, которые тут же меня поправят. Такое бывает. Это очень здорово и для меня полезно — чтобы не было «шапкозакидательства», чтобы не было работы в жанре «пришла и говорю». Каждый шаг надо обосновывать.
И, кстати, может быть только благодаря вот этой школе, которую я как лектор прошел в МГУ, я до сих пор на свободе. Ведь известна тактика сектантов: журналистов и проповедников, которые мешают им работать, говорят правду о теневых сторонах их доктрин и практик, сектанты затаскивают по судам. Подают иск за иском — нас, мол, оклеветали. Такие попытки были и в отношении меня. Я живу в постоянном ожидании суда. Помню об этом. И поэтому пишу и произношу только то, что могу обосновать ссылками на источники или чужие исследования. Кроме того — четко разделяю мои оценочные суждения от фактических сообщений.
— А какова для Вас цель Ваших лекций в МГУ?
— Я прошу студентов отнестись ко мне как к самому обычному преподавателю: «У вас же есть спецкурсы о Канте, о Платоне, и, прослушав их, не обязательно становиться ни кантианцем, ни платоником. Также и цель этих моих лекций не в том, чтобы по их окончании вы крестились». Но я надеюсь, что, прослушав курс по Православию, две вещи студенты все-таки ощутят: во-первых, будет воспитан некоторый вкус, опыт размышлений на религиозные темы; и затем, встретившись с сектантскими проповедниками и книжками, они заметят, как все это примитивно. И второе — у них останется некое послевкусие: ощущение того, что Православие — сложная, серьезная, парадоксальная религия. Может быть, пройдут десятилетия, прежде чем студенты придут в Церковь, но у них будет хотя бы память о том, что Церковь — это пространство человеческой жизни.
Тот вывод, который я хотел бы запечатлеть в памяти людей,— это не те или иные какие-то конкретные мои слова, аргументы или цитаты. Мне бы хотелось, чтобы осталось какое-то общее ощущение того, что в религиозной области можно и нужно думать.
Это важно потому, что советские люди были воспитаны в убеждении, что религия и разум несовместимы. В советские времена из этой «несовместимости» делали вывод: «Я выбираю разум, и долой религию!». А сегодня маятник общественного вкуса качнулся в противоположную сторону, но стереотипы все равно остались, поэтому современное массовое сознание снова говорит: «Раз религия и разум несовместимы, я выбираю религию, и долой разум! Барабашки, залетайте!».
Надеюсь, что в университетских лекциях мне удается воздерживаться от агитационно-проповеднических интонаций.
- Вы допускаете шпаргалки на своих экзаменах?
- Было время, я сомневался, можно ли ставить плохие оценки. Сначала было опасение: мол, если я поставлю заслуженную двойку или тройку, человек уйдет от меня с горьким осадком, и, вполне возможно, эту свою горечь он сохранит и в своем отношении к Церкви. Так что низкая оценка может оказаться антимиссионерским поступком. Мол, важнее, чтобы у студента осталось доброе впечатление студента от общения с православным миссионером. Потом понял, что это нечестно. На экзамене я - преподаватель, а не миссионер. С другой стороны, студенты сами очень быстро почувствуют фальшь. Получится, что я их пытаюсь подкупить отметками, как туземцев бусами, заманиваю их в Церковь «пятерками». В общем, я решил быть обычным преподавателем. Я не ставлю «автоматом» пятерки и не заигрываю со студентами Порой у меня и православные юноши получают двойки – если они надеются «выплыть» на общей богословской эрудиции...
Мой курс все же слишком авторский. Поэтому я разрешаю пользоваться и шпаргалками и конспектами, и книгами. Студентам это все мало помогает. Достаточно задать один-два вопроса и становится ясно: понимает человек, что говорит или нет.
- Часто ли вы встречаетесь с аудиторий, которой ваша лекция «до лампочки»?
- Почти всегда с этого начинается. Но чтобы привлечь к себе внимание студентов, я в ладоши не хлопаю. Зато могу ударить по самолюбию. Например, заявить, что в вашем тьмутараканском университете не так уж часто выступают московские профессора. Напомнить, что я самый избалованный лектор России, и на моих лекциях слушатели нередко стоят в проходах и сидят на ступеньках. И вообще считайте мою лекцию инспекцией из Москвы: «Что такое ваш университет? Это ПТУ, купившее вывеску университета, или действительно учебное заведение высшего класса? Я не собираюсь тратить силы на то, чтобы заставлять вас меня слушать. Коль вам скучно, извольте выйти вон. Но после этого не считайте себя людьми науки».
После такого вступления внимание всегда возрастает. Но при условии, если уже прошла часть лекции и хотя бы часть аудитории поняла, что здесь нечто иное, чем привычное им занудство или давление авторитетом. То есть этот аргумент работает только тогда, когда до него были предъявлены другие аргументы в пользу того, что наше общение стоит того, чтобы быть продолженным. Кстати, я с удивлением узнал, что в провинциальных университетах лектор, говорящий без бумажки, вообще воспринимается как чудо.
А самый интересный случай был, пожалуй, на историческом факультете Брестского университета. Похоже, преподаватели марксисты заранее настроили ребят устроить мне обструкцию и противостать «поповской пропаганде». И по ходу лекции (а она была на вполне светскую тему о причинах научной революции 17-го века) постоянно звучали реплики из зала и перебивающие вопросы.
В конце концов я решил, что не буду являть собой пример «кроткого христианина», резко сменил интонацию и сказал: «Значит так, ребята. Учить меня тому, что писал Маркс, не надо. Я окончил философский факультет МГУ с красным дипломом, и знаю Маркса лучше, чем вы».
Сидящий рядом декан брестского истфака вдруг меняется в лице и спрашивает:
- Да-а? А в каком году вы оканчивали МГУ?
- В 1984.
- Кто у вас был завкафедрой?
- Новиков Михаил Петрович.
- А… Да, я его знаю… Это серьезный специалист... Пожалуйста, уважаемый коллега, продолжайте.
Всю студенческую фронду как рукой сняло.
О своем светском университетском образовании, о знакомствах в мире современных культурных и медийных элит имеет смысл упоминать ради того, чтобы во мне перестали видеть блаженненького инопланетянина, безнадежно затерявшегося в веках. То, что знаете вы, знаю и я. И ноутбук у меня есть, и мобильник, и свой сайт в Интернете. И новости рок-музыки я узнаю не из МузТВ, а когда в своей студии Юрий Шевчук ставит мне эскиз своей новой песни…. Но кроме этого я знаю нечто большее и могу вам это подарить. Слыша об этом, люди понимают, что Православие - это мир, в котором может жить и современный человек. Этот мир - для них, а не только для бабушек. А, значит, не надо откладывать свое вхождение в Церковь до выхода на пенсию по умственной инвалидности.
— Некоторых людей смущает, что Вы в лекциях порой переходите на уличный сленг…
— Это неправда. «Уличный сленг» — это мат, а вот именно этого вы от меня никогда не услышите. Я могу употребить слова не из уличного сленга, а из университетско-студенческого лексикона. Впрочем, лексикон разных социальных групп я могу использовать — когда и если передаю чужую речь, в цитате. И я всегда интонационно это подчеркиваю, что вот сейчас «играю», передаю ход мыслей и речь не свою, а некоего «персонажа из жизни».
От себя же я могу озвучивать лишь свой родной, студенческий лексикон. Есть, например, сложнейшая проблема взаимоотношений «малых» и «больших» народов, в частности, проблема русско-еврейских отношений. И в попытке пояснить еврейским олигархам и журналистам, что безопасность еврейской диаспоры в России зависит от того, насколько тепло, неоскорбленно, неограбленно будут чувствовать себя русские люди в своей стране, я могу сказать так: «Когда Гулливера “колбасило”, лилипутов “плющило”».
Но при этом, если нужно, я предупреждаю слушателей: «У меня есть право говорить так. У вас — нет. Вы сначала овладейте литературным русским языком, классическими нормами речи, а потом уже можно будет себе позволить диалектизмы. Десятиклассник не имеет права на “авторскую пунктуацию”. Солженицын — имеет такое право. Вот так и здесь. Я владею русским языком во всем разнообразии его стилей — от церковнославянского до студенческого. Поэтому и могу на минутку отступить в сторону от МХАТовского стандарта. Вот когда вы, дорогие мои студенты, будете в состоянии так же варьировать свои языковые средства, тогда при необходимости сможете идти моим путем. А пока — учите правила!».
Мои критики просто плохо знают историю Церкви. Ну, скажите, может ли священнослужитель сказать «теперь кейфую»? К лицу ли это монаху? А епископу? А святому? А между тем, сказал так святитель Феофан Затворник .
Однако если и в самом деле кто-то смущен моими лекциями — у таких людей я прошу прощения. Прошу прощения, понимания, терпения и молитв.
— Если уж перебирать претензии к Вам, то среди них будет и то, что порой в Ваших лекциях перебираются довольно откровенные сексуальные сюжеты…
— Да уж… Боюсь, придется сказать, что у тех, кто с моих лекций выносит только это, у самих проблемы в этой сфере. На самом деле сексуальная тематика звучит у меня опять же только в цитатах. Если я пересказываю языческие мифы, которые активно используют сексуальный язык, то зачем же я буду смягчать их звучание? Современный человек слишком оглушен неоязыческой пропагандой. Подлинных языческих мифов он не знает, ибо знаком с ними по купированным ревизиям Куна. И пока ему не покажешь реальную гнусь язычества, он все твердит, что язычество — это «близость с природой», а вот христианское отторжение от язычества — это фанатизм. Что ж — приходится дать людям понюхать языческие портянки.
О язычестве я считаю необходимым рассказывать побольше правды. Если эта правда гадка и пошла — это не мой грех. Слишком любят сегодня «интеллигентные люди» повздыхать о том, что было, мол, светлое язычество, проповедовавшее близость к природе, и было оно таким экологичным и эзотерическим, а вот потом появилось это страшное, изуверское и аскетическое христианство… Вот тут очень даже нужно напоминать людям языческие мифы не в их пересказе для детей, а в их реальном обличье: с развратом и мастурбациями, кастрациями и расчленениями трупов, с содомией и каннибализмом…
Поступая так, я следую примеру отцов (посмотрите «Панарий» святителя Епифания Кипрского и «О Граде Божием» блаженного Августина). Говоря о брачной жизни, «Августин не избегает подробностей, чуждых обычаям современной церковной кафедры и печати, но, очевидно, не казавшихся странными в то время и тому населению, для которого писал Августин» . В дореволюционных изданиях святых отцов нередко перевод прерывался, и какая-то часть текста воспроизводилась на языке оригинала — по-гречески или по-латыни — безо всякого перевода. Так от случайного взгляда прятали подробности древних упоминаний о человеческой физиологии. Сегодня «обычаи печати» снова изменились. Поэтому я считаю, что вполне можно вернуться к языку отцов.
И я буду это делать и впредь — ибо отвратить людей от язычества мне представляется более важным, нежели соблюсти благочестивую девственность слуха. Если отвращение к язычеству мои критики переносят на того, кто обличает эти языческие гнусности ,— значит, что-то ненормально с логикой у самих критиков. И не надо мне показывать слова апостола Павла о том, что блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас (Ефес. 5, 3). Апостол пишет о правилах внутрихристианской жизни и речи («у вас»), а мне приходится обращаться к тем, которые отнюдь еще не являются «нашими». Впрочем, если «Русь Православная» действительно желает, чтобы уши слушателей «не осквернялись всякой гадостью», то пусть выступит против распространения в церковных лавках совершенно патологических брошюрок вроде «Лекарство от греха».
— А порой церковных людей смущает то, что в Ваших книгах и лекциях обильно цитируются не только святые отцы, но и совершенно светские авторы...
— Факт то, что светские источники мною цитируются. Факт то, что кого-то это смущает. Но вина здесь на тех, кто смущается. Они слишком настроили себя на тотальную подозрительность и тотальное осуждение. Духовно здравый человек это оценил бы иначе. Например, так, как священномученик Иларион (Троицкий): «В сочинении автора буквально рядом стоят преподобный Иоанн Лествичник с В. В. Розановым, преподобный Симеон Новый Богослов и блаженный Августин с Мережковским. Он равно пользуется и житиями святых, и стихами поэтов, и беллетристическими произведениями, и даже рисунками юмористических журналов. Пред нами ярко выраженный тип духовного человека, всегда и всюду неразлучного с богословскими вопросами и интересами. Это тип — увы! — редкий даже и в духовной школе и тем более, конечно, ценный» .
— Отец Андрей, за Вами закрепилась репутация миссионера нового времени — необычный стиль, смелость мысли, контакты с рокерами. Эта новизна раздражает некоторую часть, так сказать, консервативного духовенства. Иной раз Вас называют «попсой российского Православия», иной раз «рационалистом», «ревизионистом» и «еретиком»…
— «Еретиком» меня называют газеты вроде «Русского вестника», редактор которого в былые времена трудился в идеологическом отделе ЦК, а теперь почему-то решил говорить от лица Православной Церкви. Всерьез к этому относиться не стоит. Достаточно зайти в книжный магазинчик при редакции «Русского вестника», чтобы убедиться в том, что чистота Православия этим людям: а) неизвестна, б) их не заботит. У них натерта и зудит националистическая мозоль. Между «русским язычеством» и «русским Православием» для них нет различия. Рекламно-языческие издания представлены у них в весьма обильном ассортименте. Более обильны в этом магазине разве что газетки и брошюрки с руганью в адрес Русской Православной Церкви (от имени всевозможных самостийных «катакомбников»).
Уровень их знакомства с Православием, которое они якобы защищают от моих «ересей», хорошо виден из статьи в «Русском вестнике», вышедшей в марте 2004 года: «Далее отец диакон долго говорит о разногласиях православных и католиков, которых, якобы, вовсе и нет. И апофеозом его лекции прозвучала фраза: “По сути, все мы с вами являемся православными католиками” (!!!). Эта фраза-слоган прозвучала в самом конце — значит, и студенты, и слушатели “Радонежа” запомнят ее крепко-накрепко. Оставляю сие без комментария и анализа» .
А зря псевдобогословы из «РВ» отказались от анализа. Я всего лишь напомнил официальное название нашей Церкви в XIX веке: «Российская Греко-Кафолическая Православная Церковь». Катехизис святителя Филарета Московского, который изучают в любой церковно-приходской школе, называется «Пространный христианский катихизис Православныя Кафолическия Восточныя Церкве». И там мы читаем: «Вопрос. Какое важное преимущество имеет Кафолическая Церковь? Ответ: Ей собственно принадлежат высокие обетования, что врата адовы не одолеют ее ».
Что означает слово «кафолический» (в другой транскрипции: «католический»)? — Вселенский, повсеместный, соборный. Да, мы — католики. Мы — Вселенская Церковь, а не латинские раскольники. Ни один из тех атрибутов Церкви, что перечислены в Символе веры, мы не можем уступить кому-то. Именно Православная Церковь и единая, и Святая, и Кафолическая, и Апостольская. И если какие-нибудь харизматы свой кружок называют «апостольской церковью», это еще не повод нам самим гнушаться этого нашего славного имени.
Так что полезен, полезен анализ.
Рационалист и критик я только при анализе нашей современной церковной жизни. Все, что несет с собою церковное православное Предание,— я приемлю и умом, и сердцем. Просто вот этому голосу Предания я доверяю больше, чем модным листовкам и видениям. Сравнить же свидетельства Предания с новыми феноменами, пробующими проторгнуться в церковную жизнь,— это уже работа рациональная. Сначала, впрочем, все равно это дело вкуса: при знакомстве с очередной новизной прежде рождается вкусовое ощущение — «не то», ну, а затем уже это ощущение богослову просто надлежит облечь в аргументы.
«Ревизионист» я по отношению к своему атеистическому прошлому. Те свои взгляды я действительно пересмотрел. Да, мое переживание Православия отличается от переживания традиционно церковных людей. Для меня вера — это обретение, а не наследие. Одно дело: человек из священнической семьи, потомственный, у него где-то даже глаза замылились, ему что-то приелось, поскушнело. Я ревизионист в том смысле, что до сих пор умею радоваться и открывать для себя глубину церковной традиции. До сих пор нахожу что-то новое, неожиданное и радуюсь.
Что касается «попсы» — в этом тоже есть своя правда. Попса — то, что популярно. А что — Православие должно быть элитарно, эзотерично?
И разве проповедь приходского батюшки, что-то в сотый раз разжевывающего для бабушек,— не «попса», не упрощение? Почему приспособлять православную проповедь к уровню бабушек считается нормальным, а попытка вести тот же, по сути, разговор на языке студенчества считается предосудительным?
— Приходится Вам сталкиваться с какими-то предубеждениями православных верующих?
— У каждого свои предубеждения. Кто-то, например, считает, что нельзя улыбаться, когда разговор идет на духовные темы. Смотришь на такого человека во время лекции — и видишь, что в нем происходит тяжкая борьба с самим собой, потому что часть его сознания запрещает смеяться и улыбаться, но в то же время, когда он слышит какой-то интересный аргумент или шутку, остатки человечности пробуют вырваться наружу через коросту псевдоблагочестия. Если же и этого не происходит — что ж, с горечью приходится ставить неутешительный диагноз: «необратимо воцерковленный человек»… Самое несчастное существо: и к радостной глубине Православия он не прикоснулся, и радость человеческого общения потерял. Приняв Бога (точнее — «идею Бога»), он потом не смог с этим вновь обретенным даром вернуться в мир людей.
Насчет «необратимости». У Владимира Соловьева есть стихотворение «Признание»:
Я был ревнитель правоверия,
И съела бы меня свинья,
Но на границе лицемерия
Поворотил оглобли я.
Душевный опыт и история,
Коль не закроешь ты очей,
Тебя научат, что теория
Не так важна, как жизнь людей,
Что правоверие с безверием
Вспоило то же молоко
И что с холодным лицемерием
Вещать анафемы легко.
А еще бывает, приезжаешь куда-нибудь и чувствуешь: глухота, нет у людей желания слушать, думать и реагировать. Похоже, что здесь кто-то из батюшек настолько неудачно начал вести проповедь Православия, что у людей сложилось впечатление, будто Православие — синоним большой скуки. Приходится сламывать и это предубеждение.
- Говорят, что раньше Вы были более независимы в своих суждениях, а сейчас стали ближе к власти.
- В таком упреке сквозит извечная убежденность русской интеллигенции - власть всегда не права. Но прошлый век нас научил, что может быть неправота большая, чем неправота власти: неправда бунта.
— Где у Вас больше недоброжелателей: в среде атеистов, представителей другой веры или среди православных церковников?
— Больнее всего переживать упреки от своих. Как-то в Тюмени ко мне подошел бородач в сапогах и говорит: «Зачем Вы к нам приехали? В Евангелии сказано: Не бойся, малое стадо . Видите, нас, православных должно быть мало. Зачем Вы тут проповедуете?!».
Так что бывает, мои поездки по епархиям заканчиваются доносами. Именно из церковной среды.
В 1998 году газета «Русский вестник» уже предлагала меня расстрелять. В номере 46–47 они перепечатали статью некоего Николая Алексеева «Перебежчики» (до этого вышедшую в седьмом выпуске альманаха «Антихрист в Москве»; его издает Комитет «За нравственное возрождение Отечества», окормляемый протоиереем Александром Шаргуновым).
Когда-то (в книге «Школьное богословие») я написал, что мы слишком напуганы тревогами «взрослого» мира и за этими тревогами не видим детей. В Москве вышло уже несколько сборничков под названием «Антихрист в Москве». Но с ними ведь в школьный класс не пойдешь. Туда надо идти с вестью о том, что «Христос в Москве»,— ибо «Христос посреди нас!». Представим, что я пришел в школу и в течение трех недель беседовал с детьми. В результате один слушатель захотел креститься. Пошли. Крестили. На следующий день, когда я приду в класс, для меня возможны два варианта поведения. В первом случае я скажу: «Жидомасоны вы проклятые! Я уже три недели говорю вам о Православии, а только один из вас вырвался из-под влияния гнусного рока и порнографии!», а во втором случае: «Посмотрите, какая у этого Ваньки физиономия счастливая. Это — потому, что он вчера крестился. Кстати, эта радость может быть и вашей». Я предпочитаю второй путь. Издатели «Антихриста в Москве» — первый. «Мы — герои Брестской крепости,— говорят они.— Нас со всех сторон окружили враждебные силы, с окон газами травят, под нами подкоп ведут, сверху бомбы бросают... В общем, быть православным — это здорово, айда все до нашего каземата!». И надо сказать, что даже в такой проповеди был бы больший динамизм и было бы больше правды, чем в той, какая ведется сейчас со страниц православных изданий и в телесюжетах. Все же воинская символика — это тот язык, что близок сердцу мальчишки. На этом языке он сможет понять, что речь идет о чем-то живом и ждущем от него выбора и участия. Но и такая проповедь редко слышна. По большей части язык нашей проповеди еще анемичнее. «Храните веру предков» и «имейте сокрушение сердечное» — в этих призывах так мало может узнать себя молодой человек.
Издатели альманаха «Антихрист в Москве» смысл всей трехсотстраничной книги «Школьное богословие» свели к этому одностраничному фрагменту и заявили, что «дьякон Андрей Кураев написал целую книгу “Школьное богословие” якобы о христианском воспитании детей — с тем только, чтобы дезавуировать позицию Комитета и с чувством превосходства (как у того чекиста) небрежно раскритиковать попытки оградить детей от окружающего их растления» .
У «комитетчика» слишком высокое мнение о своей деятельности. При том, что мне неблизка «духовно-душевная» атмосфера шаргуновского «Комитета», его апокалиптическая моноидейность и мрачная моноэмоциональность, я и не подумал бы писать целую книгу «с тем только, чтобы дезавуировать позицию Комитета».
Разочарую «Комитет». Эти строки были мною написаны еще до создания его структуры. «Комитет» был создан в сентябре 1994 года, а мой текст был опубликован в первом сборнике моих статей «Все ли равно как верить?» (Клин, 1994. С. 26–27), который был подписан в печать еще в марте 1994 года, а вышел в мае. Впервые же эти строки появились на свет вообще в середине 1993 года . И лишь увидев, что новосозданный «Комитет» поразительно похож на давно мною нарисованный шарж, я вставил упоминание о нем в «Школьное богословие».
Но само «Школьное богословие» я написал вовсе не ради полемики с «Комитетом», а ради устранения тех средостений, что стоят между детьми и Церковью. Если бы прав был Н. Алексеев, написавший, что «убитые души детей не волнуют перебежчика дьякона Андрея Кураева» , то не стал бы я браться за написание такой книги о детях.
Но теперь я убежден, что от шаргуновского «Комитета» детей действительно надо охранять.
Во-первых, потому, что детей надо защищать от любой истерики и нетрезвости. Разве нормально восприятие мира человеком, который в банальных рекламных щитах (пусть даже рекламирующих грех) видит магию и ничего, кроме магии: «Эти рекламы имеют чисто мистическое значение — это чистый сатанизм, оккультный колдовской прием… Здесь речь идет уже о потворстве черной магии» . Ну ладно, сорвалось с языка при выступлении по радио. Но зачем же потом эти запальчивые преувеличения перепечатывать? Неужто каждый грех — это уже «чистый сатанизм» и «черная магия»? Неужели все, приходящие на исповедь для рассказа о своих грехах, должны каяться в «чистом сатанизме» и «черной магии»?
Если к неверующим подросткам, воспитанным на материализме-дарвинизме-консюмеризме, к подросткам, которые на переменках подсовывают друг другу порножурнальчики, прийти и сказать, что они «чистые сатанисты» и «черные маги», то это будет лучшим средством для того, чтобы надолго перекрыть им всякую дорогу к храму...
Во-вторых, детей надо охранять от «Комитета» потому, что он несет в себе такой заряд ненависти, с которым самые страшные голливудские триллеры не сравнятся.
А что еще я могу сказать о людях, которые, по сути, призвали к моему расстрелу? Именно таким выводом кончается статья Алексеева: «Что же можно сказать? Сурово, но справедливо поступал с перебежчиками генерал Туркул» . А поступал он так: «Чекиста расстреляли без пощады» .
Напомню — статья «Перебежчики» посвящена именно мне.
Кстати, в этом же выпуске «Антихриста в Москве» протоиерей Александр Шаргунов делится своим интеллектуальным опытом: он наконец-то достиг понимания того, почему именно надлежит «наказывать смертной казнью за пропаганду безбожия» …
Затем у борцов против ИНН появилась мода при встречах делиться со мною своей мечтой — как бы они хотели изжарить меня в клетке (так было в коридоре МДА во время заседания Синодальной богословской комиссии по проблеме ИНН в феврале 2001 года, а также при пикетировании иннэнистами епархиального собрания у храма Христа Спасителя в декабре того же года).
А в день моего рождения в 2004 году в Интернете (и, что более важно — в праздник Сретения) магаданские «православные» фашисты вернулись к теме моего расстрела: «Кураев в своем амплуа. Теперь этот деятель рассказал всему крещеному миру о пользе “дня святого Валентина”. Оказывается, раз традиция уже есть, так пора и молебны служить 14 февраля о здравии “всех влюбленных”. А то не знает “умник”, что в нормальном церковном календаре 14 февраля никаких “Валентинов” отродясь не бывало. Тьфу! Впрочем, этот …удак давно уже в расстрельный список напросился» . Ну, видите, вот опять нехорошее слово процитировал…
Попытки вдуматься, понять, о чем я говорю, у моих «суперцерковных» оппонентов нет. Голое супервозбужденное раздражение пропитывает их тексты. Для примера — отзыв «Русского вестника» на мою лекцию про «Матрицу».
«После ознакомления с лекцией стало понятно, что далее оттягивать начало разговора нельзя: то, что говорит диакон Кураев, является полнейшей, вопиющей, чрезвычайной ...галиматьей. Подчеркиваю, галиматьей является именно то, что говорит автор лекции, а не то, о чем он говорит. Причем галиматья эта, подобно галиматье Жириновского, весьма талантлива и обтекаема. Насыщенная созвучными сведениями из области истории, богословия, культуры, она приковывает к себе внимание, интригует, начинает казаться мировоззренческой концепцией, завоевывает своих “сторонников”. Я долго не мог понять, сторонником чего именно можно быть, будучи сторонником того, что говорит диакон Кураев. Ведь если взять в руки карандаш и абзац за абзацем, строчку за строчкой, слово за словом проанализировать то, что говорит диакон Кураев в своих статьях и лекциях, то обнаружится, что сказанное в целом не имеет ни малейшего смысла. Причем такая совокупная беспредметность складывается из отдельных частей и частичек, которые сами по себе могут быть и содержательными, и актуальными, и свидетельствовать о каких-то отдельных аспектах истины. Но перелопаченные через мясорубку воспаленного сознания диакона Кураева, войдя в состав его проповеднического “фарша”, они перестают служить прежним своим идеалам и начинают обслуживать популизм конкретной персоны. И что удивительно, подобное творчество находит своих почитателей! Причем большая их часть — это так называемые “новые русские” из числа предпринимателей, банковских клерков, деятелей “шоу-бизнеса”. Все это люди далеко не глупые, способные к самостоятельному добыванию, осмыслению и использованию информации. И вот, поди ж ты, попались, как мухи на липучку» .
— А какая из Ваших книг более всего критикуется Вашими церковными оппонентами?
— С книгами спорить тяжело — тезисы в них ясно прописаны. Аргументация приведена. Да и проверить легко — правда ли я написал ту глупость, которую мне приписали. Поэтому издания, специализирующиеся на обличении «кураевщины», предпочитают строить свои пиар-кампанию на перевирании моих лекций.
К лекциям легче придраться по вполне объективной причине. Лекции для пишущего человека — это всегда черновики. Тут обкатываются, «наговариваются» некоторые темы, сюжеты, аргументы. Затем, по мере начитки определенных тем, они оформляются сначала в статьи, а затем и в книги. Устная речь имеет иные особенности, нежели речь письменная. Здесь больше сиюминутности, меньше продуманности. Здесь бывает больше педагогики (надо «держать аудиторию») и меньше логики и источниковедческой корректности. Но людям определенных способностей наполовину сделанную работу не показывают.
Сразу поясню: кассеты с моими лекциями распространяются против моей воли и без моего ведома. Ни гонораров, ни даже авторских экземпляров мне не передают. Тем более не делают необходимой правки при тиражировании лекций. А правка необходима — ибо в устной речи бывают и неточные цитаты, и путаница в датах. Бывает также, что то, что было нужно сказать именно в той аудитории, совсем ни к чему на кассете или в книге.
В моих аудиториях (а б!ольшую часть своих лекций я читаю «на выезде» — вне Москвы) преобладают люди или равнодушные, или даже враждебные по отношению к Православию. Обо мне они, как правило, впервые услышали в день лекции. Кроме того, эти лекции проходят обычно после окончания основных занятий в университете. Студенты уже достаточно выдохлись за день. Суметь еще два часа удержать их внимание — дело совсем не простое. Так что вытаскивать аудиторию надо из «минуса». Предвзятое отношение ко мне (для них я безымянный представитель «этого тоскливого Православия») и к тому, о чем я говорю, надо в течение первого часа переменить на сначала сдержанно-интересующееся, а в конце концов и на согласное.
Совсем иное дело — кассета. Ее покупает человек, который уже заранее заинтересован в беседе на именно эту тему. Это, как правило, не студент. Опять же, как правило, это человек уже православный. Он способен уже к восприятию более твердой духовной пищи. Ему не нужны «разрядки» и «экскурсы в сторону». Поэтому, если бы распространение кассет хоть как-то согласовывалось со мною, я настаивал бы на их серьезнейшей правке. Увы, никакого согласования нет.
— А насколько человек, пришедший на Вашу лекцию, может быть уверен в том, что Вы излагаете действительно точку зрения Православной Церкви?
— Вы сами понимаете, что если я сочту, что мои взгляды — это не взгляды Православной Церкви, и при этом буду делать вид, что говорю от имени Церкви, то я буду подлецом. Для меня очень дорого, что я в Церкви: я к этому стремился, мучительно шел, чтобы войти в Церковь, поэтому ни в малейшей степени не желаю себя Церкви противопоставлять. И, естественно, я принимаю все церковное вероучение. Другое дело, что нужно отличать догматические вероопределения от частных богословских суждений, мнений. В последнем случае есть пространство для изучения, ознакомления, понимания и — споров. Здесь могут быть разноречия даже между православными богословами. Они всегда были в истории, более того, даже между святыми отцами были недоразумения и дискуссии. Так что, начиная лекцию, я всегда стараюсь разъяснить: когда речь идет о церковной позиции, а когда о вопросе, по которому нет общецерковного суждения. Тогда я говорю: «Моя позиция вот такая, но это моя позиция, у других священников она может быть по этому вопросу другая».
И потому и журналистов, и семинаристов я прошу: «Братья, простите, понимаю, что вас уже достали призывами к аскетике, воздержанию и так далее, но я присоединяю свой голос к голосу ваших священников и прошу вас: будьте воздержанны на язык. Хотя я понимаю, что это звучит отчасти смешно — диакон Кураев призывает к воздержанности, а у самого язык без костей,— но тем не менее я благочестиво прошу вас: братие, фильтруйте базар! И как можно реже в своей речи позволяйте себе начинать фразу с вводного предложения “как учит Церковь”, “по мнению Церкви”».
Я имею право начать так фразу только в том случае, если дальше последует цитата из Символа веры. Вот тогда я имею право сказать: «По учению Церкви, есть Единый Бог Отец, Творец неба и земли, всего видимого и невидимого мира». В остальных случаях лучше поосторожничать и не выдавать свое мнение за мнение всей Церкви. Скажем, когда меня спрашивают: «Что Церковь думает о Гарри Поттере?», то на это я могу ответить только: «Да много чести для Гарри Поттера, чтобы Церковь о нем что-либо думала”. От имени Церкви может сказать только Собор. Но я как-то не могу представить себе Собора, в повестке дня которого под пунктом 15 значилось бы: «Выработка отношения к Гарри Поттеру».
И все же я не думаю, что Церковь не одобряет мою работу. Об отношении Церкви ко мне можно судить по судьбе моих книг. За 10 лет тираж моих книг уже перевалил за 700 тысяч. В связи с этим у меня есть чувство некоторой вины перед моими однокурсниками по университету, среди которых есть люди очень яркие, талантливые. Но я смотрю, как им живется и как живется мне. Мне, конечно, живется гораздо лучше. У меня есть та возможность, о которой мечтает любой интеллигент. Это возможность говорить с людьми. То, что я пишу, востребуется, издается, распространяется. А те книги, что пишут в Институте философии Академии наук и на философском факультете МГУ, или не издаются, или издаются мизерным тиражом в 500 экземпляров, так что, по сути, автор сам их и покупает, а потом раздаривает. Мое преимущество в том, что за моей спиной стоит мощная система епархий, приходов, монастырей со своей сетью книготорговли. По сути дела, сегодня только религиозные организации имеют общероссийскую сеть распространения литературы. Даже научная литература по стране почти не распространяется. Так вот, если бы отношение ко мне Православной Церкви было плохим, мои книги не издавались бы и не распространялись.
Тут вообще есть две крайности. Одни мои критики считают, что я какой-то диссидент внутри Церкви и мои книги не представляют церковной позиции. Другие же мои критики, напротив, полагают, будто моя работа носит «заказной» характер. Они пишут, что «книги диакона Кураева щедрейше финансируются РПЦ МП» . На деле и то и другое неверно: я не официальный журналист, но и не диссидент. Многие издательства — как светские, так и церковные — готовы издавать мои книги, но прежде всего потому, что это приносит им прибыль. Книги интересны и нужны людям; они не содержат оппонирования Патриархии — поэтому церковные структуры и не сторонятся от соучастия в их издании и распространении.
Второе. Почти половина моей жизни проходит в поездках. И по большей части приглашают именно приходы и епархии. Для меня как раз это источник радостного ощущения — я в Церкви, я вместе с нею и ради нее.
И третье: я же чувствую, что от многих и многих неприятностей меня хранят молитвы тех людей, что по всей России поминают меня. Я живу, не по грехам моим, хорошо — и это по их молитвам.
Не буду скрывать: не всегда все духовенство одобряет мои суждения. Бывает и несогласие, и полемика. Более того — иногда (не по вопросам вероучительным, естественно) моя позиция оказывается отличной от позиции большинства.
Меня это не слишком смущает. Я себя ощущаю как исполнитель в большом симфоническом оркестре. У меня не самый громкий и не самый главный инструмент. Но и он нужен. Более того — если бы звучал только мой инструмент, то музыка вышла бы невыносимой и симфония была бы загублена. А если бы мой инструмент замолчал — симфония вышла бы малость беднее, лишенной некоего привкуса. А так — я знаю, что есть издания и проповедники, которые говорят иначе. Иначе — не всегда означает «неверно». Просто и там и там есть своя пастырская, миссионерская правда или нужда.
В общем, я считаю, что наша Церковь достаточно сильна и стабильна, чтобы позволить себе терпеть на своей периферии таких маргиналов, как священник Иоанн Охлобыстин или диакон Андрей Кураев. Сигналом тревоги будет служить появление «секты кураевцев». Пока я не слышал о возникновении кураевской секты, и это меня радует. Значит, люди через мои лекции, мои книжки приходят не ко мне, а к Богу.
— Почему в Святогорском монастыре Донецкой области не разрешают продавать Ваши книги?
— Святогорский монастырь противопоставил свою позицию позиции Патриарха, Синода по вопросу о новых паспортах, налоговых номерах и так далее. Что же касается книг, то запретить легко, а вот аргументировать — труднее. Как-то у меня была возможность увидеть в деле наместника этого монастыря. Этот батюшка, явно не отягощенный академическим образованием, вдруг встал и заявил: «Да я всех святых отцов прочитал — там нет того, что Вы говорите!». Уверяю Вас, ни один профессор богословия не прочитал всех святых отцов. Еще дальше от этой цели отстоят наместники монастырей. Хотя бы по той причине, что огромная часть текстов святых отцов не переведена на русский язык... В общем, реплика этого молодого эрудита (он на пять лет моложе меня) была встречена дружным хохотом священнической аудитории (это было на епархиальном собрании Донецкой епархии).
— Вы молитесь перед началом Ваших бесед?
— Да, перед входом в аудиторию. При этом я не столько произношу традиционные молитвы по молитвослову, сколько просто говорю: «Господи, Ты знаешь, зачем Ты меня сюда привел, помоги мне». И, действительно, я чувствую, что Господь мне помогает. И помогает не потому, что я такой хороший, а просто потому, что это нужно другим людям. И любой священник подтвердит, что очень часто Господь дает силы и слова через священника ради человека, который к нему обращается. И даже невзирая на грехи самого проповедника .
— Скажите, по Вашему личному опыту, кому подобные встречи важнее: Церкви или людям?
— Они необходимы всем. Церкви — для того, чтобы в этом диалоге слышать собеседника и самой в ходе беседы уточнять свое понимание тех или иных проблем. Верующим людям они помогают осознать и защитить свою веру. Неверующим же людям такие встречи помогают противостоять деятельности сект.
— Вы часто говорите о красоте Православия, любовь к которому у Вас очень глубокая и за которое Вы так мужественно стоите. Если все же открыть, за что Вы его любите?
— Я в Церкви не потому, что умные книжки прочитал, а потому, что встретил людей, в которых Православие живо и из которых свет Христов струится. Я православный потому, что есть старцы. Все книжные аргументы в пользу Православия совершенно недостаточны для того, чтобы войти в Православие, принять его, жить им. Я бы ни одного дня не остался в Православии, если бы меня удерживали в нем только какие-то знания: богословские, философские, историко-религиозные. Но, милостью Божией, я встречал Православие в жизни, встречал людей (может быть, не более десяти за все эти двадцать лет жизни в Церкви), с которыми можно было ни о чем не говорить.
Старец — это человек, с которым можно молчать. Очень часто, мне кажется, люди этого не понимают, принимая старцев за каких-то оракулов. И едут к старцу для того, чтобы тот подтвердил мнение, которое и так есть у человека,— подтвердил мою правоту. Или о каких-то бытовых вопросах у него спрашивают. А ведь в старце важно не то, чт!о он скажет о будущем и даже обо мне. В нем важно то, что он есть. Важно качество его бытия.
В старцах есть святая очевидность, в их присутствии умирают вопросы. Поэтому общению с подлинным старцем не может помешать и языковой барьер. Так, в Румынии, когда я еще не знал румынского языка, я познакомился с отцом Клеопой, человеком подобным, наверное, отцу Кириллу (Павлову), а внешне, может быть, даже больше похожим на отца Иоанна (Крестьянкина). Рядом с ним было просто хорошо сидеть. Тишина и мир внутри. Он исповедовал и время от времени выходил к народу, беседовал, отвечал на вопросы. Меня удивило, что тогда, еще в 80-е годы, он говорил против сект. А потом он даже написал специальную книжку против сект.
Первая же моя встреча со старцем была удивительной. Это были очень тяжелые дни в моей жизни, когда я учился в аспирантуре в Институте философии, уже несколько лет мечтая о поступлении в семинарию. Я дерзнул сказать об этом своему духовнику, и тот стал объяснять мне трудность церковного служения, из чего я понял, что он меня не благословляет на это. Жизнь для меня потеряла смысл…
Но однажды после литургии в Лавре один мой друг-семинарист показывает на пожилого человека в светском пиджачке и говорит: «Смотри, у этого старичка глаза прозорливые». Я смотрю: красные, как будто налитые кровью глаза, ничего прозорливого я в них не разглядел, да и что я мог тогда в этом понимать? Но затем, часа через два, возвращаясь в Москву, я увидел этого же старичка в вагоне электрички. С нами ехали подвыпившие ребята, которые стали приставать к старику-паломнику. А он стал отшучиваться:
— Ой, ребятки, да что уж, вы молодые, вам видней, а я уж как-нибудь доживу. Вы меня не трогайте.
Они спрашивают:
— А как зовут-то тебя, дед?
— Да Сережка меня зовут,— отвечает.— Ребятки, вы поспите, ничего, я тут уж доеду…
И действительно, минут через десять они засыпают. И тут вдруг старичок поворачивается ко мне, причем мгновенно происходит перемена лица, и спрашивает:
— А тебя как зовут?
Я говорю:
— Меня Андреем зовут.
Он говорит:
— А ты, Андрюш, не беспокойся, в семинарию ты поступишь.
В разговоре выяснилось, что старичок этот — иеросхимонах Сергий, подвизавшийся в Почаевской лавре, разогнанной еще много лет назад. Я спросил батюшку, давно ли он странничает. Он говорит: «Нет, недавно, 17 лет». А мне самому тогда было лишь 22 года.
Так он и странничал, от храма к храму, от монастырька к монастырьку. И на прощанье он сказал мне: «Не переживай. Я за тебя помолюсь. Наша монашеская молитва крепкая, до Бога доходит». После этого я как на крыльях лечу к себе. Обратился к батюшке с рассказом обо всем этом. И мой духовник сказал: «Да что ты, я просто не понимал, насколько это для тебя серьезно, а так, конечно же, поступай в семинарию, с Богом…».
Одним из критериев, по которому можно определить, истинный это старец или он только мнит себя таковым (или люди его таковым считают),— одним из таких критериев является то, что у подлинного духовника нет заранее заготовленных ответов, нет схем для всех случаев жизни. Я знаю по себе и по своим друзьям, что даже на одни и те же вопросы — и теоретические, и совершенно конкретные — отец Кирилл (Павлов) разным людям говорит разное. И это ни в коем случае не приспособленчество, не какая-то политика, когда в каждой аудитории говорят то, что здесь желают слышать. Это и не психология, не всматривание в человека. Старец всматривается в себя, в свою молитву, и уже оттуда черпает, что надлежит сказать этому человеку на его вопрос. Ответы разным людям потому и бывают разные, что разный замысел у Бога о разных людях. Если же вы видите, что некий священник всех подряд посылает, скажем, в монастырь или, напротив, всех подряд уговаривает жениться, значит, у этого человека есть некая схема, которую он налагает на людей.
— Отец Андрей, Вы одновременно являетесь профессиональным философом и профессиональным богословом. Чем, по-Вашему, философия отличается от теологии, и что общего между ними?
— В отличие от философа, богослов знает, у Кого спрашивать. Там, где философ один на один со своими мыслями и загадками, богослову есть Кому молиться и Кого вопрошать.
— Так есть вопросы, на которые и Вы не знаете ответа?
— Конечно. Вот только небольшой их перечень:
Куда подевался мальчик, которым я был когда то?
Скажите, долгая старость — награда или расплата?
Где умирают птицы?
Сколько лет сентябрю?
Понимает ли море, то, что я говорю?
О чем молодая листва поет весеннему бризу?
Откуда является смерть — сверху или же снизу?
Сколько листьев, чтоб выжить, платят зиме деревья?
— А есть вопросы, которые Вам не нравятся?
— Я не люблю вопросы обо мне самом. Лучше поговорить о православной вере, чем о том, как я пришел к ней. Кстати, это интервью я специально даю ради того, чтобы интересующихся мною лично отсылать к этой книжечке и тем самым экономить время на лекциях для разговора о более важных предметах. Я бы и дальше отмалчивался на эту тему, если бы вокруг моей биографии не начали возникать самые странные мифы и клеветы. Так что лучше, чем каждый раз тратить время на рассказы и объяснения, самому все же рассказать о себе.
Господ журналистов я прошу учесть, что они не дождутся от меня ответов на два своих традиционно-диких вопроса: «Расскажите о целях Вашего приезда в наш город» (как будто я приезжаю для того, чтобы местного пива попить!) и «Что Вы пожелаете в конце нашим читателям».
Еще мне не нравятся вопросы типа «Расскажите о Ваших впечатлениях о нашем городе». Во-первых, этот вопрос неприличен, потому что он не оставляет собеседнику пространства для выбора; стандарты вежливости требуют выдать ответ в стиле: «Как тут все здорово!». Во-вторых, этот вопрос выдает безнадежный непрофессионализм интервьюера (ибо означает, что он больше не знает, о чем спросить, то есть пришел на работу, будучи «не в теме»). В-третьих, он обнажает и его столь же безнадежный комплекс провинциала, считающего себя именно таковым — мол, человек из Москвы (Парижа, Лондона…), а наш Урюпинск ему понравился!
А главное — у меня просто нет сил и времени, чтобы систематизировать свои впечатления. При моем объеме работы на выезде я могу работать только «на выход»; входящая информация почти не усваивается. Да и что я вижу в других городах, кроме одних и тех же залов и «дворцов культуры!». Чаще всего не остается времени даже для того, чтобы поклониться местным святыням.
Но еще больше я не люблю вопросы в стиле: «А как Вы относитесь к…». Слишком часто их задают только для того, чтобы записать меня в какую-то партию. Это не вопрос, а допрос. Это своего рода «экзамен на лояльность» той партии, с которой себя отождествляет вопрошающий.
Для примера: получает некая газета письмо от читателя. Читатель говорит, что, желая вступить в Черную сотню, он «пошел за благословением в местный храм и услышал от своего духовника, что сначала-де нужно самим воцерковиться, начать вести праведный образ жизни, а потом уже спасать Россию и других к этому призывать». Очень верные слова: прежде чем воспитывать в себе ненависть к тому, кого ты сочтешь «недругом России», надо привить себя к любви Христовой. Но даже если бы духовник сказал своему духовному сыну нечто не столь очевидное — не дело газеты опровергать совет духовника. Один из принципов церковной этики состоит в том, что нельзя критиковать духовного отца и его советы в присутствии его духовного чада. Совсем иначе мыслит «Черная сотня». Вопрошающий получает ответ: «Наше время смутное, и среди духовенства встречаются время от времени обновленцы, экуменисты и прочие еретики. Отличить еретика от православного не всегда бывает просто, но есть своеобразный “тест”, по которому можно с большой долей вероятности отличить одного от другого. Давай перечислим вопросы из этого “теста”. Спроси священника — как он относится: к экуменизму, католицизму, протестантизму; к событиям августа 1991 года и октября 1993 года; к демократическим средствам массовой информации; к демократическим выборам; к Ельцину и его режиму; к самодержавной форме правления; к обновленчеству и А. Меню; к переходу на “новый стиль”; к церковному служению на русском, а не церковнославянском языке; к иудаизму и иудеям; к патриотическому движению вообще и к Черной сотне в частности. Ответы на эти ключевые идеологические вопросы практически с абсолютной точностью дадут тебе ответ: еретик перед тобой или православный священник» .
И духовного сына подстрекают к тому, чтобы задать подобные вопросы своему духовному отцу! Хамство это, а не борьба за Православие. Диссидентский модернизм, а никак не традиционализм стоит за этим «тестом».
И хотя автор этого теста — Александр Штильмарк — прихожанин храма, где я служу (и очень хороший и светлый прихожанин; человек с добрыми, а не злыми или колючими, унылыми глазами), все же при всем моем добром человеческом отношении к нему я не могу счесть этот его «совет» умным или даже просто церковным.
В древности все как-то было яснее. «Предел Православия — есть чисто ведать два догмата веры — Троицу и Двоицу: Троицу неслиянную и нераздельную созерцать и ведать; Двоицу — два естества во Христе во едином Лице исповедать» (ср.: Преподобный Григорий Синаит. Главы о заповедях и догматах, 26) . Сегодня критерии, по которым люди готовы различать Православие и ересь, весьма сместились.
«Вопрос 707. Если кто скажет, чтобы я проклял Нестория и подобных ему еретиков, проклясть ли мне их или нет?
Ответ. Что Несторий и бывшие после него еретики находятся под анафемою — это очевидно, но ты отнюдь не дерзай проклинать кого-либо, потому что считающий себя грешником должен оплакивать грехи свои и — более ничего. Но не надобно осуждать и проклинать кого-либо…
Вопрос 708. А кто отсюда заключит, что и я мудрствую так же, как еретики, что сказать тому?
Ответ. Скажи ему: хотя и очевидно, что еретики достойны проклятия, но я сам грешнее всякого человека и боюсь, как бы, осуждая другого человека, не осудить себя самого…
Вопрос 709. Если же я не знаю, действительно ли еретик тот, которого он просит меня предать проклятию, то как поступить мне?
Ответ. Скажи ему: «Брат! Я не знаю, как мудрствует тот, о ком ты говоришь; проклинать же того, кого я не знаю, как кажется, послужит мне в осуждение. Говорю тебе, что другой веры, кроме преданной от 318 святых отцев [Первого Вселенского Собора], я не знаю, и кто мудрствует иначе, нежели она научает, тот сам себя предал анафеме» .
Сегодня же если миссионер говорит только о главном — о Христе, то «партийными» православными это воспринимается как злостное уклонение от партийного «равнения», как маскировка позиции «молчальника». И позиция эта наверняка является совсем неправославной, «не нашей», раз он о ней не говорит,— ведь этот миссионер, говоря о Евангелии, не высказывается на ту тему, что интересует всех истинно-православных ревнителей. Представьте — в то время, когда «остро стоит на повестке дня проблема…», он совсем не говорит о ней, а полемизирует с какими-то «свидетелями Иеговы» и доказывает им Божественность Христа вместо того, чтобы принципиально потребовать от Патриархии канонизации N!..
Интернетовский сервер издателей «Руси Православной» откровенно предупреждает: «Мы не предлагаем посетителям нашего сервера материалов по Священному Писанию, житиям святых, катехизису, истории Церкви». Что же это за «православная Русь», забывшая о Евангелии и редуцировавшая Православие к бесконечным перепалкам! Как с очаровательной откровенностью и наивностью выразилась писательница, близкая к духу «Руси Православной», «миссия нашего Отечества — удерживать юлианский календарь» . Не мала ли «русская идея»? Неужели это и есть тот уникальный вклад России в мировую культуру, историю и религиозную жизнь, о котором мечтали славянофилы и Достоевский?
Но свой круг интересов околоцерковные газетчики считают нормативным для Православия. И тех, кто этим кругом не ограничивается, пробуют вытолкать из Церкви.
— Мне довелось присутствовать на Ваших лекциях. И оба раза у меня такое впечатление, что на лекциях я узнал больше, чем из Ваших книг. Сколько из задуманных книг Вы уже издали, а сколько еще ждут своего часа?
— Если считать формально, то вышло у меня 35 книг и брошюр. Но как их считать, я и сам не знаю. Вот в 1997 году у меня вышла книга под названием «О нашем поражении». В ней было 40 страничек. В 1999 году вышла книга с таким же названием. То, что было за два года до того целой брошюркой, здесь стало лишь первой главой. Всего же в книге стало 540 страниц. В 2003 году вышла новая переработка той же книги с тем же названием — «О нашем поражении. Христианство на пределе истории». Теперь в книге уже 840 страниц. И при том 140 страниц из издания 1999 года не вошли в издание 2003 года…
Как это считать — три разные книги или одна?
Или обратный пример: в 1997 году у меня вышла книга «Если Бог есть любовь». В ней было 120 страниц. Она полностью вошла в состав моей книги «Дары и анафемы» (в последнем издании это 540 страниц). Так две это книги или одна?
Я поэтому осторожно говорю, что у меня вышло 20 книг.
— Когда Вы успеваете писать так много книг и статей?
— А я и не успеваю. Поэтому и приходится все время к ним возвращаться и переделывать.
Так получилось, что я начал писать и публиковаться раньше, чем сам это предполагал, и раньше, чем был готов к этому. Слишком резкий поворот произошел в религиозной жизни России в начале 90-х годов, и слишком медленно реагировали на происходящие перемены церковные издания и церковные писатели. На себе я убедился в истинности наблюдения, утверждающего, что каждый пишет ту книгу, которую хотел бы просто прочитать. Отсутствие современных апологетических публикаций с одной стороны, и невероятное количество лжи о православии, с другой, понудили меня взяться за перо.
К обычной, давно привычной и тогда еще не стихнувшей атеистической антиправославной полемике в те годы прибавились новые голоса: и сторонников “общечеловеческих ценностей”, полагающих, будто именно православные монахи мешают им стать банкирами, и быстро набирающих силу оккультных пропагандистов, и новых русских протестантов, в одночасье воспитанных иностранными миссионерами.
Со стороны церковных публицистов и богословов старшего поколения не было слышно публичных ответов на эти нападки на православие. И тогда я вспомнил слова Антона Чехова: “Есть большие собаки, и есть маленькие собаки, но маленькие не должны смущаться существованием больших: все обязаны лаять - и лаять тем голосом, какой Господь Бог дал” .
Мои статьи начали появляться в газетах, затем в журналах, наконец они стали собираться в книги. Те отклики, которые мне доводилось слышать, показывали, что несмотря на всё несовершенство этих книг, многим людям они все же принесли пользу. Их тиражи и допечатки быстро разошлись. Но когда вновь стали поступать предложения об их переиздании, оказалось, что просто так это сделать просто невозможно. Их нужно слишком серьезно менять. Я отказываюсь признать эти книги своими, то есть выражающими мое сегодняшнее отношение к обсуждаемым в них проблемам.
В Московской Духовной Академии моим любимым преподавателем был профессор Алексей Ильич Осипов. Человек глубоко православный и потому наделенный удивительной внутренней свободой, он непрочь иронично отнестись камому себе и к своему профессорскому достоинству. Чтобы не прилагать к нему слишком обязывающее слово “юродство” я скажу иначе: порой он не прочь поступить так, как не позволяют поступать нормы православного этикета. Так вот, однажды на перемене я подошел к Алексею Ильичу с вопросом по поводу одного из тезисов его учебника “Основное богословие”. Мой вопрос, однако, был встречен совершенно неожиданно: “А почему Вы с этим вопросом обратились именно ко мне?” - “Ну как же, - говорю, - Алексей Ильич, это же Ваш учебник!”. -”Помилуйте, да с чего Вы это взяли?”. Ошеломленно показываю ему титульный лист: “Да вот здесь же написано!”. - “Ну, нет, извините, здесь как раз написано, что автор совсем другой человек”. - “Как так?” - “Читайте внимательно: видите, как написано - “доцент А. И. Осипов”. А я кто? - профессор А. И. Осипов. Так что это не мой учебник”.
Вот так и я чувствую, что мои первые книги не вполне мои. А потому время от времене я занимаюсь уничтожением своих старых черновиков, точнее - переработкой прежде вышедших книг. В переизданиях многое заново написано на те же темы, которым были посвящены первые книги, но при этом, естественно, сохраняются те места прежних книг, которые в моих глазах все еще выглядит как более-менее приемлемые.
И, конечно, обилие лекционных поездок мешает писательской работе. В последние восемь лет у меня хватает сил только перерабатывать полтора десятка уже вышедших книг. Вообще же хотелось бы еще 6–7 книг написать. Материал для них есть.
— Вы не очень жалуете прессу, а между тем сами предпочитаете называть себя не богословом, не профессором и так далее, а церковным журналистом.
— Тут действительно есть некоторое расхождение между официальным титулом и внутренним самоощущением. Ну, какой я в самом деле «профессор богословия»! В дореволюционую Духовную Академию меня и студентом бы не приняли, не то что профессором! Я бы прежде всего на языках завалился… Но уж если есть сегодня богословские высшие учебные заведения — кто-то должен быть в них и профессором. «Какое время на дворе — таков мессия».
Впрочем, тут можно отметить одну уникальность нашего времени: впервые в истории нашей Церкви миссионерская работа ведется профессорами богословия. Даже в предреволюционные годы слышны были жалобы миссионеров, что «профессора наших духовных академий совершенно игнорируют святое дело нашей миссии, гибель душ православного народа для них безразлична, почему профессорских трудов по сектоведению у нас никогда не было, нет, и не знаю, скоро ли будут. Лишь изредка, как бы мимоходом, они критикуют наши миссионерские литературные труды, но самостоятельных серьезных научных работ по вопросам миссии они до сих пор не дали и не дают и миссионеры в этом отношении совершенно одиноки».
Сегодня ситуация действительно уникальна: есть группа профессоров богословия, которые готовы отрываться от академических библиотек и византологических штудий и идти к людям и аудиториям, весьма далеким от профессионально-богословских традиций. Идет ли это на пользу или во вред их собственно научной работе? По крайней мере по себе могу скаазть, что, конечно, во вред. Но людям-то польза есть. Значит, надо работать именно так: зная достаточно для преподавания в духовной школе, все же идти в школу обычную; имея знаний больше, чем у журналиста, работать все же именно в журналистике.
Я действительно — церковный журналист. И так как изнутри вижу, как делается журналистика, у меня есть ряд уже порядком укоренившихся претензий к современной светской прессе. Есть такой старый еврейский анекдот. Еврей сидит и плачет на пепелище своего дома. Подходит к нему сосед и спрашивает:
— Как дела, Изя?
— Да сам видишь — дом сгорел, жена сгорела, дети сгорели. Все сгорело!
— Да, печально... А что еще новенького?
Этот анекдот у меня прочно ассоциирован с журналистикой…
А еще, конечно, в мире журналюг и чиновников мне обидна устоявшаяся неприязнь, нелюбопытство к миру русской мысли, к миру философии, богословия. Почему у нас русской культурой считаются только «ложечники» и «матрешечники»? Почему событием в культурной жизни считается концерт Бори Моисеева, а не лекция богослова? Обидно, что в мире журналистики царит потрясающая безграмотность , нелюбопытство, предвзятость. Откуда это желание современных папарацци все изгадить, изъесть, обо всем написать с ехидцей? Прошли торжества в Дивеево (100-летие прославления преподобного Серафима) — а либерально-диссидентствующий интернет-сайт начинает репортаж с фразы: «Паломники разъехались, оставив после себя груды мусора». А ведь даже детские стишки высмеивали такой репортерский стиль:
«- Где ты была сегодня, киска? -- У королевы у английской.- А что видала при дворе? —- Видала мышку на ковре».
— Отец Андрей, говорят, у Вас вышла новая книга о посте?
— Да прильпни язык мой гортани моему , аще я когда-нибудь напишу что-то о посте! Достаточно посмотреть на мою талию, чтобы понять, что это тема, находящаяся вне пределов моей компетенции.
— У Вас дома обширная фонотека, даже записи современной музыки; на книжной полке у Вас фотография Высоцкого — как это все совмещается с христианством, верой в Бога?
— Ну, эта музыка — то, что осталось от прежнего и что жалко стирать как воспоминание о молодости. Что касается Высоцкого, то для меня это был очень дорогой человек, который в период моего выбора… Не скажу, что он привел меня к Православию,— но он создал ту внутреннюю психологическую атмосферу, в которой это стало возможным. Потому что его песни говорили о выборе, о протесте — в начале 80-х этот мотив не мог не присутствовать в жизни молодого человека, который пришел в православную традицию. За это я Высоцкому благодарен.
Его песни постоянно звучали в нашем доме. Это еще любовь и моего отца — они с Высоцким ровесники. Поиск своего пути, колеи, выход за «красные флажки» — вот это сделало для меня психологически возможным сделать свой выбор.
Я храню те кассеты, но уже давно не слушаю его записи. Жизнь человека полосата: наверное, бывают такие дни, когда я снова мог бы слушать и стал бы слушать Высоцкого. Рассудочно говоря, я желал бы, чтобы таких дней было поменьше. А, с другой стороны, то, что такие дни бывают, это помогает оставаться человеком.
— У Вас случаются личные духовные кризисы, Вас посещает ощущение богооставленности?
— В свое время в семинарии это все хорошо лечилось. Были и личные трения, случались занудные лекции… Но выходишь за территорию семинарии и понимаешь, что все остальное — хуже. С той поры мой образ жизни на границе Церкви и мира скорее помогает преодолевать внутренние кризисы, нежели их порождает.
— Вы имеете в виду периоды неспокойствия, духовного кризиса?
— Здесь мы упираемся в другую проблему, серьезную проблему внутренней церковной жизни. Она состоит вот в чем: люди, которые приходят в храм, обращаются к священнику — это зачастую люди с больной совестью, с больной душой. А священник — это, как правило, человек, чье благополучие выше среднего уровня (я говорю о внутреннем благополучии). Это человек, у которого есть свой смысл жизни — очень осознанный,— человек, у которого есть внутреннее призвание. Это человек, который всем существом своим ощущает нужность своего служения. Это человек, у которого главный выбор жизни — уже позади, сделан. Но ситуация внутреннего мира имеет своего двойника: вот мир во Христе, а вот двойник — душевный комфорт. И очень легко одно принять за другое. Часто так бывает, что люди нецерковные,— которые зачастую поэтому и остаются нецерковными,— идут к священнику со своей болью, а встречают человека, который не пожелал быть собеседником, не пожелал принять эту боль. Не пожелал выйти из своего привычного ритма жизни, выслушать человека, понять его. Господь от таких болезней, как известно, лечит: лечит нас искушениями, разными житейскими тяготами. И поэтому, с одной стороны, может быть, и не хотелось бы, чтобы эти «тяжелые» дни бывали, но, с другой стороны, совсем с этим расставаться — это означало бы утрату. Иногда бывают такие дни, когда становится близким ощущение дохристианского юношеского экзистенциализма.
— «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...». Но вернемся к Высоцкому. В каких отношениях он с христианством?
— В плохих. Я, конечно, сильно христианизировал его в своем восприятии и был очень рад, когда однажды увидел его фотографию с крестиком на шее. Этому обстоятельству я придавал, наверно, больше значения, нежели сам Высоцкий.
Но его судьба, похоже, все-таки прошла мимо Евангелия. И в этом во многом виноваты наркотики. Увы, очень многое из той боли, которая есть в его поздних песнях,— не оттого, что пошлость советской действительности вызывала страдание в душе поэта, а — просто боль от наркотика. Но есть у Высоцкого и настоящая поэзия.
— Очень часто в Ваших лекциях, в работах Вы цитируете отрывки из литературных произведений и цитатами из Цветаевой или из Высоцкого иллюстрируете многие богословские темы и аргументы. Что для Вас значит мир поэзии?
— Просто я не люблю мир прессы и телевидения, мир попсы. У Цветаевой есть строчки: «...Читатели газет — глотатели пустот!».
И вот убежищем от этой тотальной «макдональдизации» мира газет для меня становится поэзия. Когда-то это была отдушина от мира диамата. И я очень признателен Цветаевой, Ахматовой, Галичу, Пастернаку, Волошину, Гумилеву, Маяковскому, Есенину. Я не смею судить их за те кощунственные выпады, которые встречаются в произведениях некоторых из них. Как не имеет права священник осудить человека, пришедшего на исповедь, так и я не сужу поэта за его публичную исповедь, на которую он вынес свои грехи, страдания, сомнения, страсти.
— Есть ли у Вас время для чтения подобной литературы? Насколько обосновано использование подобных цитат? И вообще, что Вы предпочитаете читать, каков круг Вашего чтения в данный период?
— Художественную литературу я очень давно уже не читаю, просто со времен студенчества в памяти кое-что осталось. Работаю с историко-религиозной, богословской литературой. Почти не читаю даже книг по философии.
— Почему?
— Я же говорил, что всю жизнь жалею, что поступил на философский факультет, а не на исторический. .
— В Ваших книжках, лекциях, беседах заметно влияние Льюиса, Честертона. Каково Ваше отношение к ним?
— Льюис и Честертон очень много для меня значили. Я читал их еще в семинарии, еще в самиздате. Я понял, что можно с радостью говорить о христианстве, без занудства. И вот именно эта интонация, манера легла мне на сердце, помогла изменить стиль письма, потому что писать я начинал на чудовищном «научно-аспирантском» жаргоне. И для меня была радостной мысль, что можно же писать иначе, не для ученого совета, а для людей.
— Нравится ли Вам лично что-нибудь из современного искусства?
— В самых неожиданных местах, где думается, что на этом болоте могут только поганки расти, вдруг находится что-то интересное. Кто мог подумать, что в мире рок-музыки может появиться что-то христианское, православное? Например, песни Юрия Шевчука — там очень много евангельского света, там человеку напоминают о его душе. Очень добрым был видеофильм «Зона Любэ» — там очень человечный, христианский взгляд на человека.
— Однако в современном творчестве наверняка много неправославного. Как это можно «отфильтровать»?
— Это действительно трудно. Но, понимаете, я был воспитан в советские годы и учился быть благодарным за малое. Я знал одного семинариста, который пошел в семинарию таким странным путем: он нигде не мог достать Евангелие и покупал атеистические книги и оттуда выписывал цитаты из него. И так составил довольно полную мозаику из евангельских цитат. А в советские годы я учился быть благодарным хотя бы за одно доброе слово о Церкви. Поэтому и привык к тому, что могу ценить какого-то автора, при этом не беря на себя обязательство соглашаться со всем, что он сделал, говорил. Так что остается только сказать вслед за Анной Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут цветы, не ведая стыда».
— Слушая Ваши лекции, поражаешься Вашим знаниям, и они, должно быть, всё пополняются и пополняются. Как Вы чувствуете себя с ними? Ведь сказано: от многая мудрости много печали .
— Да, так сказано Соломоном (если именно его считать автором «Екклесиаста»). Но у премудрого Соломона речь шла о знании отнюдь не научном, философском, а о знании мира людей. Мои книжные познания, скорее, укрепляют мою веру. Удар по вере наносят обычно «новости церковной жизни». Но лекарства от уколов современности — в знании истории. Когда я узна!ю какие-то плачевные вещи о нас, современных православных, то думаю: «Боже мой, люди не научились грешить по-новому за тысячи лет. И тем не менее Господь нас терпит». А то, что Господь нас терпит, дает надежду, что наше поколение — не есть поколение предельное, последнее. Число же подлецов в рясах всегда стабильное, евангельское — каждый двенадцатый.
В общем, тут у меня утешение то же, что и у Екклесиаста: Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот, это — новое!» — но это было уже в веках, бывших прежде нас! (ср.: Еккл. 1, 10).
— Вы как-то говорили, что в земной истории мы всё равно обречены на поражение. Но разве оптимизм — не качество православного христианина?
— Есть известная формула: «Мое знание пессимистично, моя вера оптимистична». Каждый из нас переживет гибель не только России, но и всей нашей Галактики. Мы же бессмертны. К сожалению или к радости — решать каждому самому.
— А что Вас в церковной жизни радует?
— О, в Церкви меня радует прежде всего то, что Она меня терпит.
— А в конце что бы Вы хотели сказать?
— У меня есть одна просьба, вырастающая из одной моей досады. Мне больно, что в нашей Церкви нет общецерковной молитвы о миссионерах. И все же я знаю, что очень многие люди поминают меня в своих личных молитвах, это я ощущаю. И я бы просил, чтобы, открывая мою книжку, прежде всего помянули меня, пока я жив, за здравие, а когда уйду — за упокой.
[Настоящая беседа составлена из интервью изданиям «Татьянин день» (1997, № 13, май), «Иное. Хрестоматия российского самосознания. Т. 4. Путеводитель» (М., 1995), «Лица» (1998, № 9), «Верую! Газета православных христиан» (Иркутск, 1999, № 1 [15]), «Консерватор» (2003, 7 февр.); «Известия» (2003, 3 марта), «Собеседник» (1992, № 8; 2003, 5 марта).]
Подробнее ( с примечаниями) это интервью можно прочитать в книге "Не-американский миссионер".

Аборт, прерывание беременности Православный взгляд услуги няни билеты в театр отделка и ремонт квартир, ремонт офисов гостиница украина г Москва гостиницы Москвы |